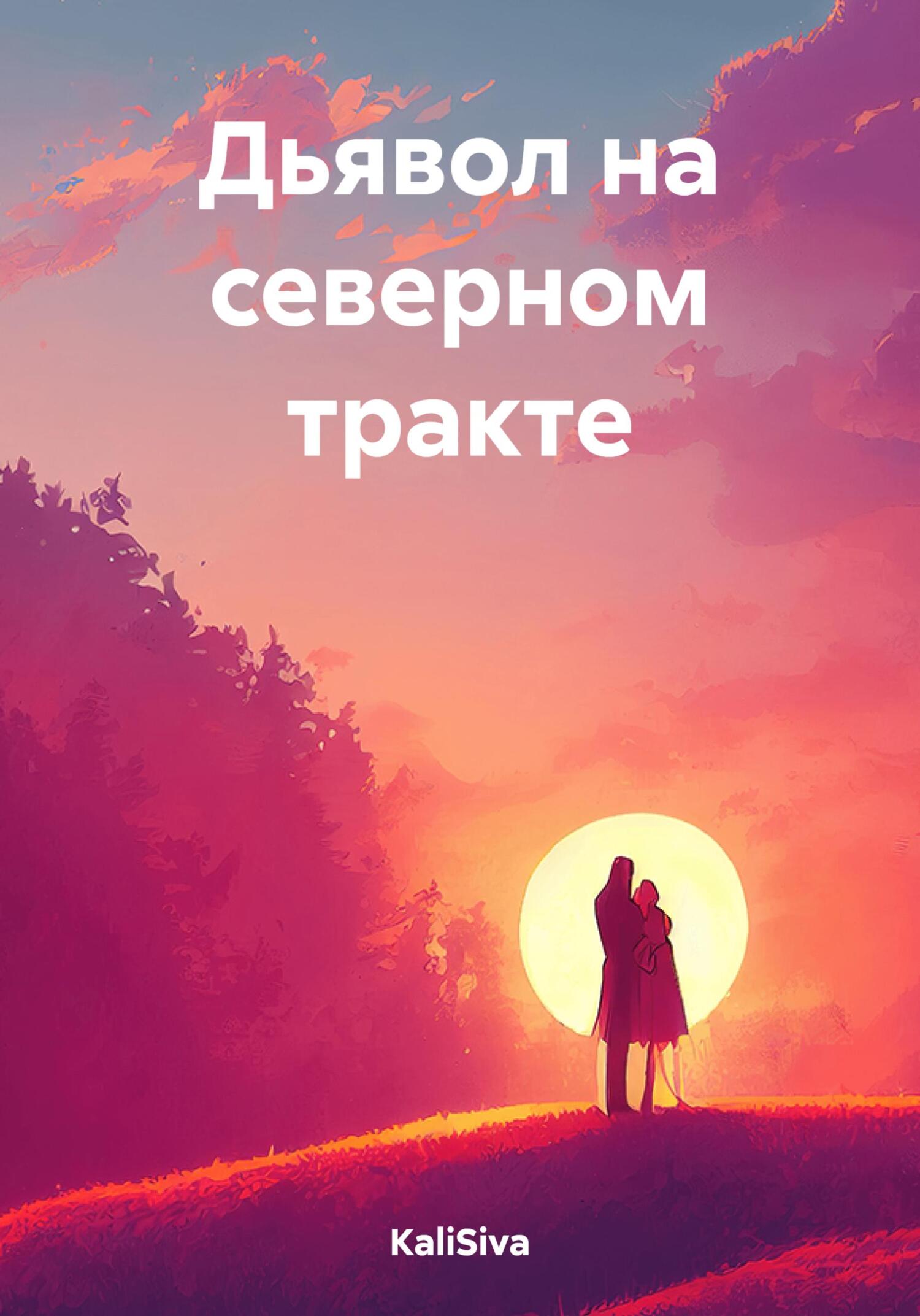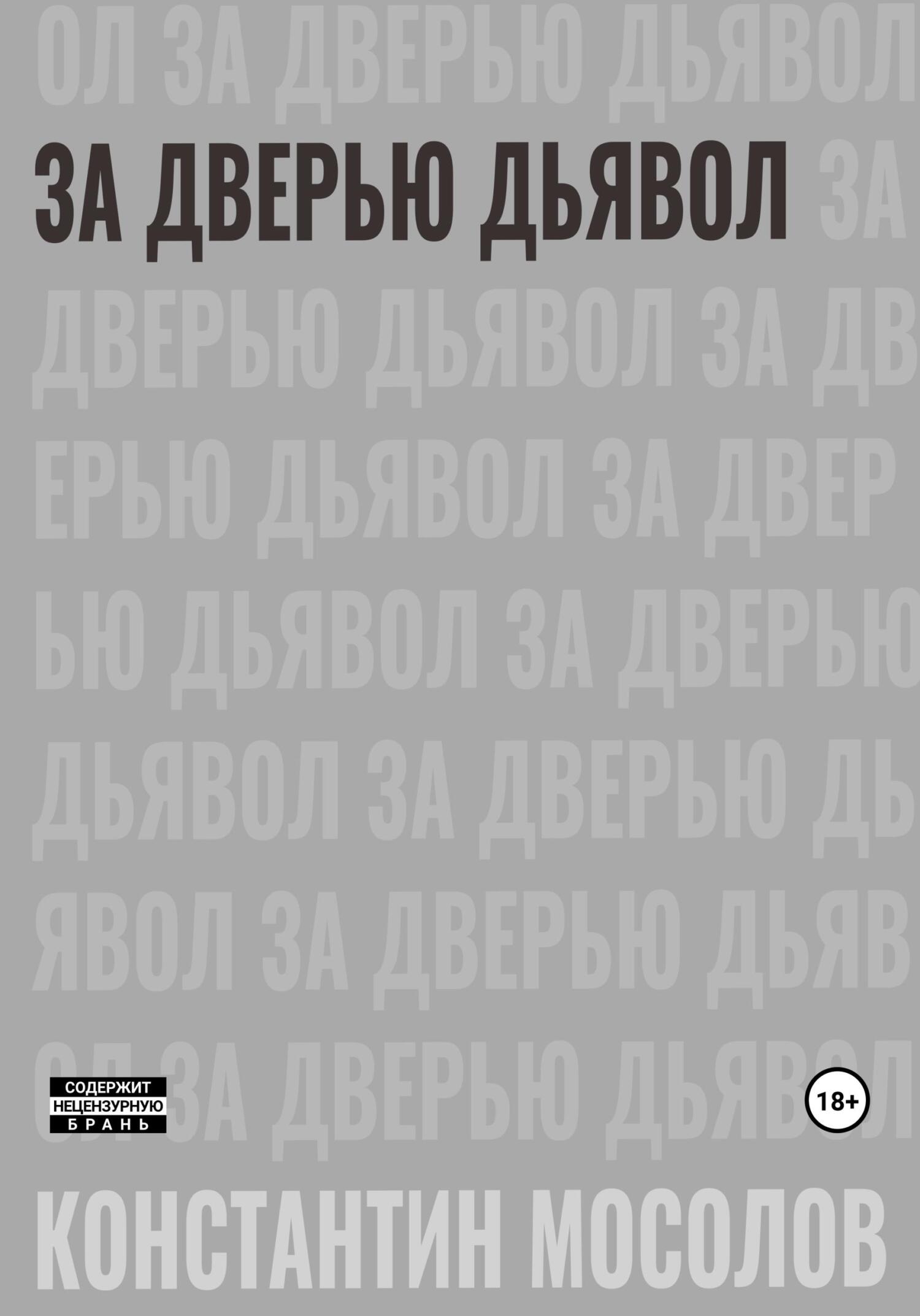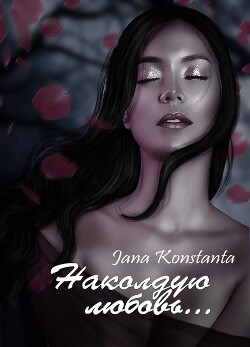было, когда он гордо стоял на ногах, а сейчас плащ просто висел мокрой тряпкой, и становилось понятно — что никакой это не мертвец живой, не посланник ада, не упырь, не тать, а самый что ни на есть обыкновенный человек. Щуплый, если не сказать худой.
Ванькович понимал, что опасности для него убивец не представляет. А по тому особо не торопился. Вальяжной походкой подошел к человеку, придавленному лошадью, и, разумеется, сперва толстой веревкой связал руки, обмотал тело, а затем одним рывком сорвал с головы устрашающий старинный шлем с забралом.
Как сказывал потом народ — не каждый король мог похвастаться таким количеством людей на коронации.
Казнь была назначена на утреннее время. День стоял морозный и солнечный. Заранее глашатаи стольного града Вильно оповестили жителей о предстоящем событии — публичной казни атамана страшной шайки, державшей в страхе все княжество почитай несколько лет.
Толпа гоготала, шумела, колыхалась. Люди надеялись увидеть если не черта во плоти то покрытого шрамами двухметрового верзилу — как минимум.
Каково же было их удивление, когда на эшафот вывели женщину — в дворянском платье. В гробовой тишине палач снял мешок и провозгласил:
— Желаешь ли ты покаяться?
— Мне не в чем каяться.
— Тогда последнее слово.
— Мне не в чем каяться. Я ни о чем не жалею. Что Ваш Бог! Я проклята им! У меня женское обличье и мужское сердце. Я должна была родиться рыцарем, как мой отец! Ах кабы знали вы, с какой радостью я убивала. Я — как всевышний решала кому подарить жизнь, а у кого ее отнять. Ведь это не люди! Это свиньи! Мошкара! Всех вас раздавить, уничтожить. С вашими жалкими стремленьями, пустыми мечтами, грязью и похотью. Очистить землю! Девушка сверлила ненавидящим взглядом толпу, искала в ней кого то, Искала, и нашла
— Ванькович! Это я мужа своего убила. Не любила его, никого не любила. Одного тебя. Что ж ты не бежал со мной… По красивому бледному лицу текли слезы.
— Что же ты стоишь теперь, как чужой.
На казнь Ванькович не остался. Дома, в одиночестве налил стакан бурбона, залпом его осушил, увидел саблю, на которую клялся, что упадет, коли татя не изловит, долго вертел ее в руках. В холодной стали долго рассматривал свое причудливо переливавшееся отражение. Говорил сам с собою:
— Я все правильно сделал. 400 человек душегубица извела. Ни детей малых не жалела, ни стариков. И тянула душу Ваньковича холерическая тоска, изводила кручина, а мысли были черны и далеки.
Нет у Бога других рук, кроме твоих собственных. Это были ЕЕ любимые слова.
А тело Ядвиги болталось на виселице почитай всю зиму, и некому было снять его.