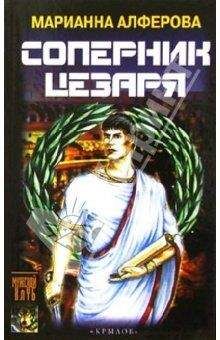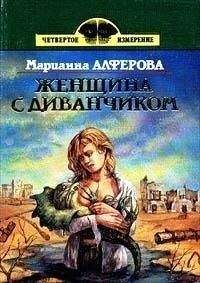— Повозка нам пригодится, — сказал Зосим, — пойду, подгоню ее поближе.
Картина VII. Марк Антоний, старый друг, новый враг
Да, мы заключили с Цезарем договор, но я ни на палец не верю императору. Каждый из нас будет держаться соглашения лишь до той поры, пока это выгодно. Он милосерден не потому, что добр от природы, — о, нет! Он считает, что милосердие привлекает к нему сердца народа. Так что не стоит полагаться на милосердие человека, который добр по расчету разума. Но пока он присылает мне золото, я — его союзник. Каждый из нас задумывает свое. Вопрос лишь в том, кому улыбнется Фортуна. Пока я прикроюсь этим союзом, как щитом, и слава Цезаря станет моей славой.
Теперь я почти уверен — у Цезаря нет никакого плана насчет Республики, кроме плана получить огромную, неограниченную власть. Прежде всего, власть над десятками легионов, чтобы завоевать весь мир.
Выборы на следующий год уже вот-вот начнутся. Я поддерживаю кандидатуры Публия Плавтия Гипсея и Квинта Метелла Сципиона. Они не слишком большие друзья Цезаря — и Плавтий, и Метелл близки к Помпею, но для меня теперь главное, чтобы Милон не прошел. А поскольку эти двое — мои друзья, то против Цезаря они не будут выступать, если я не подскажу.
Оптиматы совершенно обессилели — они лишь цепляются за условности, за свои оскорбленные чувства, за незыблемые традиции, за семейные культы, за громкозвучность имен, за право урвать кусок, за право грабить провинции, за право грызться друг с другом в сенате.
Теперь в Городе схватки происходят чуть ли не каждый день. Без охраны не выйти из дома. Но скоро все кончится. Скоро. Надо лишь убрать Милона.
Из записок Публия Клодия Пульхра
Конец июля 53 года до н. э
По возвращении из Галлии он уже не застал в живых сестру Клодию. Теперь Публий, при жизни бывший ее опекуном, улаживал финансовые дела покойной. Он продал сестрину виллу в Байях, о которой ходило столько мерзких слухов, и купил себе новый дом на Палатине — роскошный особняк Марка Эмилия Скавра, за четырнадцать миллионов восемьсот тысяч сестерциев. Дом этот огромными своими помещениями и крикливой роскошью походил на дворец какого-нибудь царька — чего стоил один атрий, украшенный восемью колоннами из черного, без единого пятнышка, лукулловского мрамора. Колонны эти, тридцати восьми футов высотой, привез Марк Эмилий в год своего эдилитета для временного театра. Театр тот простоял один месяц, а потом увеселительное заведение разобрали, и восемь самых больших черно-мраморных колонн Марк Эмилий потащил в свой новый дом на Палатин. Когда смотритель клоак увидел такое безобразие, тут же запретил перетаскивать колонны и стоял на своем, пока не получил поручительство на все расходы по ремонту канализации, если непомерная тяжесть проломит своды подземных стоков.
В принципе, особняк этот был Клодию не нужен — у него был уже новый дом на Палатине, стена к стене с восстановленным домом Марка Цицерона. Но, узнав, что продается дом Скавра, Клодий не мог устоять. Почему — и сам не знал. Он купил этот дом, потому что должен был его купить. И слово «должен» выдавало весь характер тяжкой неволи, в которую он угодил. Милон швырял деньги направо и налево, и Клодий, соревнуясь с Милоном, должен был превзойти его во всем, и в безумствах — тоже. Прежний дом пришлось продать, чтобы хоть как-то покрыть непомерные расходы на новое жилище.
Новый дом стал символом его превосходства, залогом победы на предстоящих выборах. Клодий не сомневался, что получит должность претора. Это была не самая сложная задача. Куда труднее было не допустить Милона до консульской власти. Клодию быть претором при консуле Милоне? Нет, это невозможно!
Но Клодий не сомневался, что одолеет, ибо он найдет силы, которые сломят Милона. Он прибегнет к оружию, которого римляне боятся как огня, боятся больше, чем наводнения, больше, чем нашествия галлов.
— Что скажешь, если я предложу освободить всех рабов, а потом и рабов, и вольноотпущенников уравняю в правах с римскими гражданами? — спросил Клодий однажды утром у Зосима.
Тот не знал, что и ответить.
— Рабов нельзя сразу превратить в граждан, — сказал Зосим наконец.
— Ты — сторонник рабства? — изумился Клодий.
— Нет. Но многих рабов и так через шесть лет отпускают на свободу, — проговорил Зосим не очень уверенно. Ему было обидно, что сам он выслуживал свою вольную потом и кровью в смысле самом прямом, а другим свобода достанется просто так, даже если они были трусами, лентяями и предателями.
— Обычно! — передразнил Клодий. — Обычно, но не обязательно. Даже совсем не обязательно. Эти люди — наш последний резерв. Других нет. Как говорится, дело дошло до триариев.[153]
— Дело может кончиться хаосом, — предрек осторожный Зосим.
— Или тиранией. Но придется рискнуть. Когда Рим доходит до самого края, он всегда сулит свободу рабам — во времена Ганнибала из них формировали легионы, Сулла отпустил тысячи рабов на свободу, и все эти новоявленные Корнелии стояли за него горой. Теперь вновь настал час опасности и смуты. Воображаю, как будет кричать Цицерон, какие проклятия сыпать на мою голову.
— Я все эти годы думаю и не могу понять… — начал и замолчал Зосим.
— Что не можешь понять?
— Из-за чего вы поссорились.
— Теперь это не имеет значения. Мы лишь считаем обиды.
В тот же день Клодий объявил, что, сделавшись претором, добьется, чтобы вольноотпущенники получили право голоса не только в городских, но и в сельских трибах. Это был дальний расчет, с прицелом на консилий: Клодий заранее обеспечивал себе значительную долю голосов, ибо вольноотпущенники составляли примерно четверть населения Республики. Да, Клодий знал, что рискует: пока что это заявление не могло принести ему голосов ни плебса, ни аристократов, зато злило и тех, и других. Но Клодию было плевать на опасности, он шел к цели. Дорога сворачивалась перед ним спиралью, и он шагал по ней, забирая все круче и круче. У него были планы насчет рабов, и хотя он не готовил еще законодательных предложений, но говорил открыто, что в будущем ограничит срок рабства десятью годами, подавая надежду тем, кто этой надежды был лишен. И рабство как таковое скоро кончится само собой, и всем от этого будет только благо, потому что вместо рабства будет просто десятилетний контракт на работу, а раб всегда трудится без охоты, и римляне сами это скоро поймут. А еще он даст рабам право голоса, и с согласия своего господина рабы будут голосовать в трибе хозяина. Клодий, говоря это, внутренне улыбался — он-то знал, что слово «согласие» — оружие обоюдоострое. Свобода — странная богиня. Если она томится в неволе, надо очень плотно закрывать двери и навешивать один замок за другим. А если приоткроешь щелку — она вмиг вырвется, улетит, и тогда никакая сила ее не удержит!
Клодий, принимая бесчисленных гостей в своем огромном атрии, украшенном сверкающими черными колоннами, рассказывал о своих безумных проектах, ни минуты не сомневаясь, что его все равно изберут, потому что Клодий не может провалиться на выборах.
А он, все такой же красивый, как и много лет назад, с шапкой каштановых кудрей, с точеными чертами и бледной кожей, голосом порой резким, порой чарующим, требовал от Рима невозможного. Слушатели зачастую его не понимали, но кивали в ответ. Стоило кому-нибудь упомянуть при нем имя Помпея — он начинал насмешничать, стоило сказать доброе слово о Милоне — он начинал язвить. Он заказал карикатурные статуэтки Милона и Марка Туллия и выставил в своем атрии на видном месте.
На салютации по утрам к нему всегда являлись сотнями, так что огромный атрий едва вмещал желающих; плебс на улицах приветствовал его неизменно восторженными криками; толпа следовала за ним по пятам, куда бы он ни шел; он по-прежнему был для них народным трибуном, хотя срок его полномочий давно истек. Зосим или раб-номенклатор, если Зосима рядом не было, записывал на вощеные таблички просьбы и имена просителей. К толпе неимущего свободного люда теперь прибавились еще и рабы. Невольники показывали сенатору свои рубцы от плетей и клейма, выжженные за малейшие провинности. Одни просили защитить от жестокости хозяев, другие — снять с них металлические ошейники.
«Подождите, — говорил он им, — скоро вас сможет наказывать только суд и только за преступления, а у каждого в суде будет защитник, как закон требует этого для римских граждан».
Его слова тут же передавали из уст в уста и немилосердно искажали; ему целовали руки; его имя благословляли и проклинали одинаково горячо. Почти никто из аристократов не верил, что Клодий ведет эти речи всерьез, зато рабы верили безоглядно. Но кое-кто из знати догадывался, что он не шутит, — и ненавидели люто.