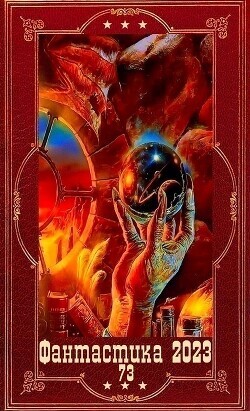Живы ли его собратья? Здоров ли Мастер?
Лин вздохнул. Отложил ихор, потер глаза. Михаил строго велел отдыхать. Как можно отдыхать, возражал Лин запальчиво, когда Лут на краю гибели?
Луту не привыкать, отвечал Михаил. Он был на краю до нас и будет после.
И отправил Лина спать, вручив кружку с горячим молоком. Теперь оставшееся молоко лакала кошка, фыркая и отряхивая усы.
Лин лег, потрогал мягкий кошачий бок. Машка пахла пылью, деревом и молоком.
— Спи тоже, зверь-кошка. — Сказал шепотом, слушая, как кошка тарахтит внутренним устройством. — У тебя четыре ноги, значит, ты устала вдвое больше меня.
Шею кольнуло, и Лин дернулся через сон, прихлопывая мелкое насекомое. Не иглы и не ликвор. Просто комар.
***
Традиция, истоков которой он не знал. Она существовала всегда. Старшие имели на это право, и кто посмел бы возразить?
Лин был общим столом, сосудом для Мастера и Лота. Мастеру это никогда не нравилось — он бы предпочел пить ученика в одиночку.
Увы, приходилось делиться, чтобы не вызывать дополнительных подозрений. Видит Лут, с этим мальчиком они ходили по самой тонкой нитке.
— Он зайдет к тебе сегодня, — сказал Мастер, внимательно наблюдая за лицом ученика.
Лин сглотнул. Зрачки прыгнули, но тут же вернули нормальный размер.
— Ему… он что-то знает?
— Догадывается. Я просил тебя быть осторожнее.
— Мастер…
— Молчи, — Эфор силой развернул воспитанника к себе спиной, надавил на затылок, заставляя показать шею, открытую низким вырезом воротника эгофа.
Ту область первых позвонков, куда обычно входили иглы.
Нежная кожа, темная полоска вдоль позвоночника, свидетельствующая о возрасте.
На этот раз укол вносил, а не извлекал.
— Что это? — Лин вытерпел процедуру без писка, лишь вздрогнул, свел худые лопатки.
— Угощение для моего сотрапезника, — пояснил Мастер, ловко пряча опустевший дозатор. — Не волнуйся. Тебе это вреда не причинит. Разве что легкое головокружение. Слабость. Или тошноту.
— Угощение, — завороженно повторил Лин, трогая пальцами шею.
Мастер поймал его руку. Легонько сжал запястье.
— Веди себя естественно. Помни — все, что я делаю, в твоих же интересах.
— Мастер…
Эфор прикрыл бледные губы ученика красными, словно облитыми кровью, пальцами.
— Вернусь скоро.
***
Лин сидел на койке, прижавшись спиной к стене, откинув голову. Лот всегда брал больше, чем полагалось. Волоокая жадность. Желание сохранить молодость. Продлить бессмертие.
Но сегодня это качество должно было сослужить Эфору плохую службу.
Эфеб открыл глаза, обведенные темными кругами.
Мастер бросил ему пакет концентрата — Лин поймал, экономно двинув рукой. Шеей старался не крутить. Мастер нахмурился.
— Покажи.
Как и думал. В наскоро заклеенных проколах виднелись мышечные волокна и подсушенное русло второго позвоночника. Расковырял глубоко. Лот всегда брал неаккуратно, некрасиво, терзая донора. После него у Лина сводило руки и болела голова.
Ученик был терпелив и никогда не жаловался. Зачем все это, если все равно суждено погибнуть на зубах Оскуро? Не бывать тому, думал Мастер. Лина он не отдаст.
Мастер сделал знак лечь. Лин послушно растянулся на животе, покосился, когда Эфор с шорохом вскрыл медицинский пакет.
— Больше он тебя не тронет, Лин.
***
Далеко не ушел.
Мастер прикоснулся к стене. Геммы впечатали в ячейки приказ, по стене прошла легкая рябь, и зрение изменило средствам наблюдения и слежения.
— Помоги… мне, — по подбородку Лота текла кровь.
Эфор заложил руки в красных перчатках за спину, глядя на сотрапезника с подчеркнутым вниманием.
— Что-то случилось?
— Я… умираю.
— Не может быть. Слишком рано для Эфора.
Теперь Лот полз от него — сначала на четвереньках, потом на локтях и коленях, под конец — только на локтях. Кровь текла изо рта — словно невидимый фокусник тащил и тащил алую ленту.
Мастер знал, куда он направляется. Подальше от него.
— Почему… — наконец прохрипел-пробулькал Лот.
Мастер вздохнул еле слышно. Лин тоже любил задавать этот вопрос. Почему? Почему все самое хорошее — и плохое — в подобных Лоту просыпается вместе со смертью?
— Потому что мой воспитанник — мой. И никто не причинит ему боли. Кроме меня.
Лот булькнул и подтянулся еще.
Мастер дал ему выдохнуть — и ударом каблука перебил позвоночник.
***
Михаил не принял Лут, а Лут не принял Михаила.
Обычаем такая тождественность заканчивалась смертью слабой стороны, но в этот раз случилось иначе.
Плотников Михаил, которого в Луте знали под именем Ледокол, выжил. Это было сродни пакту о ненападении. Михаил выбрал мирную жизнь, отстранившись от Статута и кровавой, веселой карусели приключений. Когда-то он ходил в одной связке с командой Волохи, но после их дороги разошлись. Русый сожалел о его уходе, но Михаил твердо знал одно — лучше ему держаться подальше от открытого Лута.
Открытого… Скорее, приоткрытого, как сундук, манящий немыслимым блеском сокровищ.
Михаил не был самым крутым игроком в дружине русого. Были сильнее — тот же Дятел. Умнее — Иночевский, а Мусин мог дать сто очков вперед в деле учета, а Буланко был славен тем, что, стреляя, не промахивался.
Михаила зеленоглазый атаман ценил за умение говорить красно и унимать конфликты, как боль — в зародыше, в самом зерне. Именем Ледокол его нарекли отнюдь не за боевские качества, а за способность вскрывать нужным словом толстую ледяную кожуру непонимания.
Было в ту пору у Волохи две руки, два крыла — Дятел и Ледокол. Не слишком друг друга любили, по правде сказать, но оба верно служили русому. Ценил он их, Михаилу казалось, одинаково. И сам уважал команду и «командора», иначе не пошел бы под его тень.
Но однажды такой случай вышел.
Ходили они в тот раз далеко, искали без вести канувший экипаж пассажирской тэхи. Надежный источник говорил, что тэха та была под завязку гружена синим кружевом, самодельем Хома Венцано. Дорогая игрушка, опасная. Поиск вывел к Хому Зыби. Якобы там, утверждали видоки, в последний раз тэшку наблюдали.
Тогда их обманули. Ложью, путаными словесами завлекли в ловушку, убили проводящего, на шею оглушенного русого кинули веревку, заплетенную с мелкими костями, думали подвесить, подманить того, кому кланялись. Ублажить сильной жертвой для обильного урожая и удачной охоты.
Гремели барабаны, надсадно стонала какая-то дуда. По разбросанным, с углем смешанным костям плясала голая баба, кружилась, клубком каталась, и Михаилу казалось — шерсть на ней нарастает, как вода прибывает.
Верного пса-цыгана держали будто зверя, скобами на железных палках, а Михаилу, говоруну безобидному, только руки локтями назад скрутили.
Люди, их пленившие, дикими были, Луту кровью близкими.
Идолам верили, черным от зим чурбанам с зубастыми ртами. Михаил напрягал руки, силясь скинуть путы. Заговорить хотел — рот воском закрыли.
Русого потянули к высеченному из цельного древа быку-лягухе с вертикальной смоляной пастью. Пасть держали крючьями сразу несколько богатырского сложения мужиков. Загрохотало, заворчало за кругом костряного света. Дятел рванулся так, что держащие его попадали, как кегли. Загомонили, торопясь поспеть. Михаил задышал носом чаще, глубже, шаркнул глазами по сторонам. Нет, не придет помощь.
Погибнуть им здесь, как предшественникам, лежать костьми в деревянных червах-жбанах, хрустеть под ведьмиными пятками… Гнев застил глаза. Почуял Михаил, как дыбом встают волосы на затылке, на хребте, точно гроза подбирается.
Лопнули веревки, как гнилые нитки.