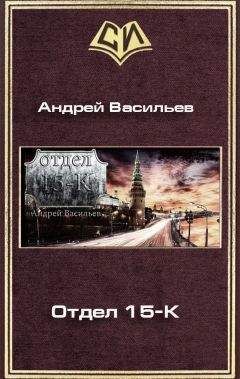время, кажется, тут навсегда остановилось, то ли двадцатый век на дворе стоит, то ли пятнадцатый – не поймешь. Именно тогда Веретенникова и пришла к выводу, что таинственный «некто» вовсе ее не спасал, напротив, он придумал для нее самую страшную казнь – существование мухи, навеки застрявшей в застывшей смоле. После страшных рубок гражданской войны, после Каховки, Бухары, Самарканда, Москвы двадцатых годов и самых темных углов страны, где творились дела, о которых никто никогда не узнает, оказаться в этом болоте… Ад и то ей казался более веселым местом пребывания. Причем любой из существующих: хоть христианский, хоть мусульманский, хоть вовсе Навь.
А уж когда Семенов заявился не на своем мотоцикле, а на полуторке, в компании с вымотанным донельзя пожилым майором и рассказал, что СССР уже две с гаком недели как ведет войну с Германией, а после забрал с собой всех мужиков призывного возраста, ей стало совсем тошно. Настолько, что хоть в петлю лезь. Она даже стала подумывать о том, чтобы через тундру добраться до ближайшей «железки», там упереть у какой-нибудь гражданки документы и с ними направиться в сторону передовой. И, возможно, так поступила бы, кабы не саам Лухта, разрушивший ее планы. Лухта был нойда, то есть шаман, причем сильный, он-то и сказал Павле, чтобы она ни о чем таком не думала даже. Не отпустит ее отсюда богиня Сациен, покрутит по тундре и обратно приведет. Или вовсе погубит, может и такое случиться. Шибко она на Павлу сердится за то, что та в свое время полезла куда не надо и из ее источника воды напилась, той, на которую людям даже смотреть нельзя.
И ведь не соврал, черт старый. Так все и получилось. Сутки Веретенникова, у которой слово с делом редко расходилось, топала по тундре, причем вроде правильно, по солнцу, а под вечер оказалась у околицы Лихова, где ее встретил смеющийся нойда. Нахохотавшись вволю, Лухта посерьезнел и сказал, что в следующий раз пощады Павле ждать не стоит, если она отсюда уйдет, то уже никогда никуда не придет. И еще в наказание за непослушание Сациен у нее кое-какие возможности отберет. Не видеть ей теперь северного сияния и собственного отражения в воде. Последнее, правда, касается только тех мест, где Владычица вод является хозяйкой.
И снова потянулись дни, полные неизвестности. Даже Семенов и тот перестал заглядывать, как видно, его тоже отправили на фронт. Ну или какие другие дела навалились так, что не до поселка Лихово ему стало.
Нет, местные бабы, само собой, быстренько решили, что война, поди, уже закончилась и их мужики вот-вот вернутся, но Веретенникова в это не верила совершенно. Да, за те годы, что она оторвана от большой жизни, многое могло измениться, но в «малою кровью и мощным ударом на чужой территории» ей не очень верилось. В конечной победе она не сомневалась ни на мгновение, но в то, что она будет быстрой и легкой… Это вряд ли. К тому же над деревушкой то и дело пролетали самолеты, причем не советские, а в середине сентября Павла расслышала как очень далеко-далеко, где-то в районе советско-норвежской границы, бухают пушки. Значит – воюют. Значит – не кончилось.
Тем временем в свои права вступила осень, причем по всем приметам выходило, что зима в 1941 году будет ранняя и холодная, причем, похоже, не только тут, на Кольском, что тоже не добавило Веретенниковой оптимизма. Она, конечно, говорила себе, что уныние грех, но чем дальше, тем больше словно впадала в какую-то спячку. Не физическую. Моральную.
– Вчера комлал, спрашивал духов о будущем, – снова пыхнул трубочкой нойда. – Силен черный царь, много у него воинов. Но белый царь все равно его победит. Только крови много уйдет, хороших людей много умрет. Сильно много. Плохо.
Ничего не ответила ему Павла, только вздохнула невесело да притоптала скуренную до обожжённых пальцев самокрутку ногой.
– А ты не печалься, – посоветовал ей Лухта. – Сациен ко мне приходила во сне, велела передать – скоро о тебе вспомнят. К добру ли, нет, но точно вспомнят. Новую нарядную торку хорошо надевать, когда идешь в гости, а когда нужно на охоту, вспоминаешь про старую, проверенную. В ней удобнее и теплее.
– Вот любишь ты, черт старый, закрутить так, что ничего не поймешь, – проворчала Павла. – Торка, охота… Тьфу. Спать пойду.
– Иди, – разрешил нойда. – А завтра ко мне приходи. Моя женка бобрятину потушит, кушать ее станем. Лето было сытное, бобер отъелся, разжирел, потому шибко вкусный стал!
Возможно, последние слова Лухты оказали на Веретенникову какое-то психологическое воздействие, поскольку всю ночь ей снились бобры – здоровенные, зубастые, наглые до невозможности. Они деловито подгрызали ножки ее кровати, причем не нынешней, самодельной, на которой она спала сейчас, а прежней, той, которая стояла в ее московской квартире на Садовой-Черногрязской улице. Причем эти поганцы вдобавок еще и переговаривались между собой на тему «Вот как сейчас она грохнется, как расшибется!». В какой-то момент так и вышло, добротное творение дореволюционных мебельщиков с треском развалилось на куски, а самый мощный из грызунов толкнул Павлу в плечо, причем сильно так, ощутимо. И еще раз, и еще!
– Да пошел ты в жопу! – возмутилась она и отпихнула от себя нахальное животное. – Пока не прибила!
– Веретенникова, ты совсем ополоумела? – удивленно спросил у нее бобр. – Да за такие слова я тебя могу обратно в лагерь запихнуть!
– Чего? – изумилась и женщина, менее всего ожидавшая того, что эти зубастые существа обладают возможностью как-то влиять на пенитенциарную систему СССР. – Куда?
– Полезные ископаемые стране добывать! – рявкнули у нее над ухом. – И похрен, что ты баба! У нас и они дают угля, пусть мелкого, но много! Просыпайся, говорю! Ишь, отожралась тут, кобыла гладкая!
Павла открыла глаза и увидела над собой знакомую усатую рожу, причем очень недовольную.
– Семенов? – пробормотала она, потирая глаза. – Вот ведь! А я думала – бобер!
– Не иначе как вчера клюквенной врезала, – повернувшись, пояснил уполномоченный мужчине, который стоял в дверях. – Здешние бабы сильны ее гнать. Вроде она и слабенькая, чуть крепче воды, пьешь ее, пьешь, а все ни в одном глазу. Потом встать хочешь, – а нет, ноги как не твои. Вот эта паскуда небось ее и налакалась накануне.
– Чего на фронте? – привычно пропустив мимо ушей «паскуду», спросила у нежданного гостя Павла. – Немца где остановили?
– Тебе вопросы задавать по чину не положено, – рыкнул уполномоченный и сдернул с нее теплое стеганое одеяло, то, которое ссыльной подарила Агафья Лукинична, сердобольная хозяйка дома. –