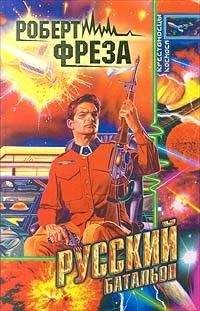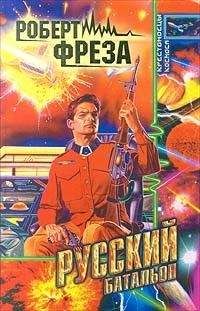– О нет! – воскликнула Брувер.
– Полковник Суми угрожал казнить подлецов для примера, если их смогут найти. Думаю, адмирала это позабавило. Хорошо, что тот парень отделался переломами обеих рук и нескольких ребер.
– В городах положение тоже становится все хуже и хуже. Вчера компания японских солдат напала на женщину в Претории. Когда двое полисменов попытались их остановить, они были атакованы и избиты отрядом «черноногих» во главе с офицером. Оба все еще в больнице, причем один рискует лишиться глаза. Женщина – совсем молодая девушка – естественно, в ужасном состоянии. Адмирал Хории обещал «сделать все возможное, чтобы разобраться в этом деле». – Она посмотрела на свои руки. – Я несколько раз прочитала донесения, которые ты мне дал.
В области военной разведки Ханна Брувер была подкована не хуже мужа.
– Ну и в какое положение это нас ставит? – мягко осведомился Санмартин.
– Альберт и я прошлой ночью проспорили об этом несколько часов. Наконец я сказала, чтобы он посоветовался с Антоном, и я соглашусь с любым решением, которое они примут. Не могу поверить, что Антон опасается нового мятежа.
– Тише! Я уже начинаю бояться, что и у стен есть уши.
– Этого бояться уже поздно. – Ханна посмотрела мужу в глаза. – Рауль, если мы это сделаем… сколько людей погибнет?
. – Много. Начиная с нас самих.
– О Боже!
– Но если мы этого не сделаем, может погибнуть еще больше. И снова начиная с нас. Антон опасался этого несколько лет.
Брувер отвернулась и заплакала.
– Все будет в порядке, – неловко попытался утешить ее Санмартин.
– Нет, не будет! А перед кем еще я могу поплакать? Ты ведь знаешь, что политики никогда не плачут. – Она встряхнула, мужа. – Ты говорил об этом с Хансом? Знаю, что говорил.
Санмартин нахмурился.
– Ханс был вдребезги пьян, поэтому ответил чем-то вроде стихов. Я заставил его повторить, чтобы лучше запомнить. «Век топора, век меча, век бури, век волка. Волки проглотят Солнце и Луну, земные узы треснут, и горы обвалятся. Карлики заплачут, а Игдрасил[16] задрожит. Радуга треснет под весом гигантов, и никому не удастся улететь с поля последней битвы. Солнце померкнет, звезды падут с неба, море хлынет на сушу, и пламя поглотит все». Думаю, я запомнил большую часть.
– Сегодня моему дедушке исполнилось бы шестьдесят восемь. Я стараюсь не вспоминать о его смерти, но сейчас у меня ничего не получается.
– Подавлять горе вредно для психики.
– Вы выслали пять лет назад единственного достойного психиатра, который у нас был. Остались полные идиоты. К тому же как будет выглядеть, если мадам спикер обратится к психиатру? – Она горько усмехнулась. – Но тебе следует знать, что и ты не в лучшем состоянии. Иногда я замечаю, как ты читаешь или слушаешь песню, а по щекам у тебя текут слезы. Ты о чем-то вспоминаешь?
– Об отце и матери. Или о Руди Шееле, Ретте Ретталье, Эдмунде Мусларе и многих других. Все они умерли не своей смертью.
Брувер встала, подошла к книжной полке, взяла Библию, открыла ее и прочитала:
– «Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую». – Она закрыла книгу. – Каждый раз, когда наш гордый и упрямый народ берется за оружие, мы страдаем из-за этого.
Услышав шаги Хендрики, Ханна вышла из комнаты, оставив мужа в глубоком раздумье.
– Итак, дружище, я просмотрел бумаги, которые ты мне прислал, и долго размышлял о сути того, что в них написано, – смущенно сказал Бейерс.
– Ну и? – осведомился Верещагин.
– Антон, у меня, как и у тебя, есть свои источники информации. Ночью, когда люди Мацудаиры навеселе, они не обращают внимания на тех, кто их обслуживает. Они говорили о списках.
– Проскрипционных списках?
– Вот именно. Длинных перечнях казней и депортаций. Они намерены вырвать сердце моего народа.
Верещагин утвердительно кивнул.
– Но такая политика аморальна! – воскликнул Бейерс.
– Хуже. Она глупа.
– Хеэр Мацудаира намерен полностью подчинить нас. Те из нас, кого Суми не собирается «удалить», как оказывающих вредное влияние, должны стать кем-то немногим лучше рабов!
Верещагин устремил взгляд на закопченный потолок.
– Думаю, через несколько дней они распустят ваше правительство. Мой батальон также расформируют. Вероятно, мне предъявят обвинения в измене.
Бейерс молчал, и Верещагин, опустив голову, заговорил вновь:
– Финляндия много лет назад перестала быть нашей родиной. Ты слышал, как я рассказывал о планете Эсдраэлон. Это холодная и голая пустыня, но она стала для нас домом. Четыре года назад на Эсдраэлоне был мятеж. Жители планеты заплатили за это страшную цену. А у моего батальона снова нет дома.
– Выходит, что миру, который я купил у тебя, теперь грош цена. – Бейерс положил ладонь на руку Верещагина. – И мятежники были правы, утверждая, что я только посеял семена куда худшего угнетения. Почему, Антон? Почему они это делают?
– Учитывая временной сдвиг, на Земле прошло почти полстолетия с тех пор, как я начал службу. Полагаю, что мне легче понять происходящее там. Уже двести лет Японией управляет одна и та же партия, и ее политика полностью утратила всякую полезность. Однако партийные боссы, поощряемые имперской системой, убеждены, что они вправе требовать каждый год все больше полномочий, и никто из японских политиков не рискует им возражать. В результате в ткани всей системы образуются дыры, а укрепляющие ее экономические связи подменяются силой и принуждением.
– Неужели люди, управляющие Японией, ничего не замечают?
– Некоторые замечают. Большинство нет. Несмотря на постоянную японскую ксенофобию, изменения к худшему происходили очень медленно. Правительства убеждаются в собственной непогрешимости, а это стимулирует коррупцию. Афиняне превращали своих союзников в данников, и римляне поступали так же. Японцы – по крайней мере большинство из них – начали рассматривать свое господствующее положение как принадлежащее им по праву. Рауль говорил тебе, что когда он служил на Земле в 11-м ударном батальоне, их лозунг был: «Римская дисциплина и самурайская доблесть»?
– Говорил, – отозвался Бейерс. – Потому он и выучил эту дурацкую латынь. ¦.
– Меня тревожит, когда нация начинает оценивать себя в рамках собственных добродетелей. Революционер по имени Максимилиан Робеспьер как-то сказал, что при управлении людьми террор и добродетель взаимосвязаны и что террор без добродетели вреден, а добродетель без террора бессильна.
– Уверен, что он убил много людей из самых благородных побуждений, – с горечью произнес Бейерс.
– Ты прав.
Бейерс уронил руки на стол и посмотрел на друга.