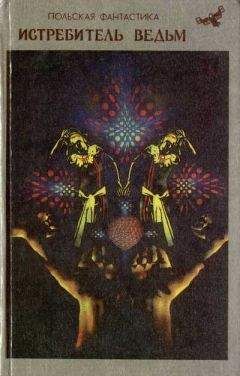На лестнице и впрямь не было видно ни зги; вот Ф. дотянулся до перил и теперь уж, держась за них, мог он ногами ступени нащупывать и спускаться уверенно. Непревзойденная душа его изнемогала сарказмом; да, это так, но есть ли вообще что-либо бесполезнее и ненадежнее всех сарказмов, всех радостей, всех уверенностей и смыслов?! Ведь нет же, сказал себе Ф. А измена их, их пресечение — есть то, что точнее всего направляет нас по дороге тоски, сказал себе он. И тут что-то знакомое накатило на него, уже виденное, уже слышанное, уже чувствованное или то, что он мог бы только чувствовать или испытывать, или видеть во снах кошмарных или в катастрофическом бодрствовании. Услышал ли он сзади что-то? ведь нет же? дыхание услышал чужое или шаги? ведь нет же, или, разве, в последнее мгновение самое услышал, когда на него уже прыгнули сзади, а после удар был сильнейший в основанье затылка, там где тот соединяется с шеей, фейерверк полыхнул в глазах его, фейерверк катастрофы, он тут же оглох и с криком, которого сам же не слышал, по ступеням вниз покатился.
И не было ничего, ни души его, ни смысла, ни слова и ни мира, ни дыхания его и ни содрогания, а вот еще контурная карта его настоящего, его заурядного или обыденного… впрочем, и на ней не было ничего. Будто сухие жгучие искорки ползли по краям тлеющей бумаги, быть может, пропитанной селитрой, какою еще селитрой? не той ли самой селитрой?.. но и это, вероятно, ему только лишь привиделось… Мир, возможно, еще вскоре вычеркнет его из реестра его (мира) бесчисленных неосновательных правообладателей. Потом, позже, через много лет или много поколений, когда он снова себя ощутил, он попытался ползти, а подняться он даже не пытался, но враги его и обидчики его, они все еще были тут.
— А у него-то в кармане, оказывается, пушка была, — говорил один из них. Говорил один из его черных обидчиков.
— Видать, не простой, — говорил другой из обидчиков, сверху вниз на Ф. глядя. Сквозь пелену болезни слышал лежащий или ползущий человек их странные и случайные голоса.
— А нам, Икрам, простые-то редко попадаются. Не то, что этим двум дуракам, — говорил первый.
— Ну ты! — одернул Икрам помощника своего. — Только я могу их ругать. У тебя нет такого права.
— Больше не буду, — отвечал тот.
— Нельзя здесь задерживаться. Мотать надо, — Икрам говорил.
И снова был фейерверк в голове Ф., в глазах и в затылке, не то, что прикрыться он не сумел, когда Икрам ногой ему с размаха по шее заехал, но и пошевелиться не смог бы, если б убивали его. Потом он не видел и не слышал, и вообще не было его. Ни здесь и ни где угодно еще не было Ф.
Икрамов помощник склонился над ним, и вот уж коробочку черную пластмассовую из кармана тянет.
— Ты что, укол собрался делать? — Икрам интересовался у помощника своего. — Ты же в вену не попадешь.
— Если ты мне посветишь — так попаду, — возразил тот.
— Делай большую дозу, но внутримышечно.
— Того эффекта не будет, — усмехнулся человек, готовясь к инъекции.
Икрам стал светить фонариком карманным, помогая помощнику своему. Тот на коленях стоял, склонившись над Ф.
Ванда, будто ужасом парализованная, слышала из-за двери крик Ф., и звуки ударов и голоса мужчин, ей хотелось открыть дверь и крикнуть: «Что вы делаете? Прекратите! Сейчас же прекратите!», — хотелось крикнуть Ванде, но тогда — смерть, верная смерть, и не будет спасения, знала она.
Наконец игла вошла в вену, брызнуло в кровь какое-то сомнительное обморочное лекарство, и Ф. был недвижен, будто мертвец. Икрамов помощник спрятал шприц обратно в коробочку, встал с коленей и волоком потащил беспомощное тело Ф. вниз по лестнице. Каждую ступеньку со стуком сосчитали ботинки Ф. по дороге, по его неосознанной дороге. Икрам спускался следом победителем.
Дверь входная внизу хлопнула; Ванда погасила свет во всех комнатах и осторожно, из глубины гостиной, смотрела во двор. Она видела, как двое тащили Ф., она не знала, что сделать, что предпринять, она особенно остро ощутила теперь всю бездну своего одиночества и беспомощности. — Я одна, я всегда была одна, я всегда буду одна, — сказала себе Ванда. И вдруг вспомнила.
Она вытряхнула из сумочки своей все на стол, рядом с деньгами генерала Ганзлия, отыскала среди ее содержимого маленькую записную книжку с бронзовыми уголками и стала лихорадочно листать ее. Нужная запись отыскалась не сразу, какие-то бесполезные бумажки высыпались из книжки, и вот Ванда нашла… Глядя в запись, быстро отстучала пальцами номер на аппарате, потом ожидание было бесконечное, невыносимое, томительное… И вдруг:
— Я слушаю вас, — голос женский, знакомый и привлекательный, быть может, но теперь Ванду передернуло от этого голоса. — Говорите же!.. Слушаю!..
— Лиза! — крикнула Ванда. — Черт тебя побери, Лиза! Кто ты такая?! Ты слышишь меня?
Миг узнавания. И тон меняется, тон теплеет, одушевляется и еще черт знает что происходит с тоном.
— Ванда. Что с тобой?
— Кто ты такая? Что ты играешь мной и всеми нами, будто куклами?! Чего ты добиваешься? Зачем тебе это все? Зачем тебе мы?
— Ванда, — сказала Лиза, — я рада, что ты все-таки согласилась с моим предложением.
— Черт побери! Ты можешь как-то повлиять на то, что происходит? Ты можешь изменить то, что происходит?..
— Могу, — сказала Лиза.
— Почему вокруг меня так много происходит всякого?
— Ничего страшного. На тебя всего лишь обратили внимание. Ведь ты же этого хотела?
— Что?! Кто обратил внимание? Что я должна делать? Скажи! Что? — кричала Ванда в телефонную трубку.
— Все очень просто, — спокойно сказала Лиза. — Тебе нужно одеться и спуститься вниз. Тебя никто не тронет. А на улице тебя ждет автобус, он тебя отвезет, куда нужно. Совсем немного, как видишь.
— А остальные?.. А наши ребята?.. Как же остальные? Ведь для выступления нужны и они!..
— Ты не поняла, Ванда. Все они давно уже в автобусе. И ждут только тебя, — говорила Лиза.
Ошеломленная женщина молчала минуту.
— Лиза, — наконец говорила она. — Но ты ведь сказала, что выступление завтра… Что-то изменилось?
— Извини, Ванда, — ответила только та. — Но ты забыла, что завтра начинается в двенадцать ночи. Ты еще взгляни, пожалуй, на часы, родная моя, хорошая моя, — сказала ей Лиза.
Машинально Ванда глаза перевела на часы стенные в форме избушки, висевшие высоко над диваном.
Было уж двенадцать, всего без пяти минут.
— Ну что, Ванда, ведь ты же будешь умницей? — спросила Лиза. — И ты ведь не будешь сердиться на меня? Ты никогда не будешь сердиться на меня? Не так ли? Скажи мне, ведь правда?..
Женщина не ответила.