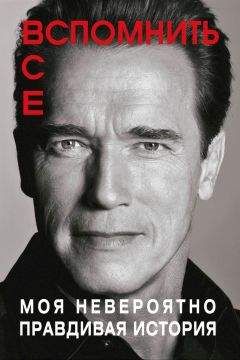Двое других сдержанно хохотнули, даже словно бы призывая Романова присоединиться к веселью.
– Ясно, – улыбнулся Романов. – Ошибочка вышла. – И, когда все трое потянулись над столом за стволами, облегченно загомонив, с такой силой столкнул их головами, что послышался настоящий треск лопающейся кости. Задумчиво смотрел секунд пять, как они лежат на полу, – у одного дергались руки и ноги, у здоровяка вяло текла из носа кровь, третий копошился вроде бы в сознании. Потом непонимающе посмотрел на хозяина за стойкой – оказывается, он что-то говорил уже несколько раз и сейчас, улыбаясь заискивающе и радушно, повторил снова:
– Мальчик, я говорю. Мальчик тут не ваш? Его час назад Хузин привел… правая рука Балабанова. Мне ствол под нос ткнул… я что, я против был, я всегда против такого, у меня кафе… у меня честно все, а он – ствол, а мальчика в допросную… так, может, ваш?
– Где это? – спросил Романов. В двери как раз входил дружинник, ведя перед собой – руки на ошейниках – тех двух мальчишек, уже без вонючей бочки. Хозяин спал с лица, заторопился:
– Вот тут дверь, вот через эту комнату, там у меня спальня для… – он улыбнулся теперь уже мальчишкам, – вот, для воспитанников… и там дальше дверь, а там подвал… они там… так это ваш мальчик, да? Ай-ай-ай…
– Гад, – тихо, безразлично сказал тот мальчишка, который на улице глядел на Романова.
Хозяин с отеческой укоризной покачал головой, явно хотел что-то сказать, но Романов кивнул дружиннику:
– Убей. Тихо.
В горле хозяина выросла рукоять боевого ножа. Он фыркнул носом и завалился вниз, цепляясь за стойку. Мальчишка засмеялся. Смех был страшным, почти нечеловеческим, полным злого ликования, как у маленького демона, получившего свободу.
– Там правда дверь? – спросил у него Романов.
Мальчишка кивнул. Сказал:
– Там камера пыток. Ему за это продуктами приплачивали. Ну, что он там порядок поддерживал. Ну, не он, а мы. Мыли, чистили, выносили…
– Пошли покажешь. – Романов, поднимаясь, сказал двум другим вошедшим дружинникам: – Этих троих взять и на площадь. Нет… этих двоих. Этого потом допросим, надо кое-что узнать. Мальчишек у крыльца…
– Занимаемся уже, – кивнул один из бойцов.
Романов ответил кивком, поймал брошенный зашедшим за стойку дружинником ключ (в другой руке он держал окровавленный нож), отомкнул страшные ошейники и бросил их на пол. Не выдержал, поддал ногой – они улетели с лязгом под столы.
– Идем.
Мальчишки пошли оба, взявшись за руки. За дверью, которую Романов быстро открыл, стоя в стороне, оказалась маленькая каморка…
Тряпки какие-то – вонючие, волглые в вечной темноте этой каморки. Отвратный запах детской тюрьмы, обитатели которой давно махнули на себя рукой. Окон нет.
– Тут вы спали? – резко спросил Романов.
Мальчишка кивнул.
– Как тебя зовут?
– Т… Темка, – выдохнул он. – А его, – грязные волосы мотнулись в сторону приятеля, – Володька… Юрковский… Он не говорит. Когда у него мать убили, он замолчал и не говорит.
– А твои родители где?
– Я… я не знаю. Мы из Хабаровска убегали, на машине… Потом кто-то начал стрелять по дороге, я выскочил и потерялся… Меня сперва Володькина мама подобрала, а потом ее убили… Мы вместе шли, прятались, а тут нас поймали и продали… – Его губы затряслись неудержимо, болезненно.
– На компьютере играть умеешь? – вдруг спросил Романов. Темка недоверчиво поднял глаза.
– У… – Он облизнул губы. – Умел… У меня был. Шестой пен… – Он опять запнулся, – …тюх… – Его глаза стали сосредоточенными, и Романов понял – мальчишка пытается понять, было ли это на самом деле или приснилось? Потом он тряхнул головой и показал свободной рукой на дальний угол, в темноту: – Там дверь. Лестница… крутая там. И там ничего не слышно. Звукоизоляция. Он там один с тем мальчишкой. Идите скорей. Там всякого для пыток много. Скорей идите.
– Идите наружу, – приказал Романов.
Темка потянул за собой товарища, потом остановился и спросил:
– А что с нами теперь будет? Вы нас кому-то продадите?
– Нет, – сказал Романов. И сам удивился тому, какой ласковый и теплый у него голос. – У нас не продают людей. Идите. Я тоже сейчас приду.
* * *
Сашка старался висеть неподвижно.
Во-первых, просто потому, что, если не двигаться, запястья болели узкими полосами и как-то тупо, вполне терпимо. А если хоть чуть пошевелиться – то боль медленно, как огненная многоножка, опускалась до самых плеч.
Во-вторых, вокруг было много разных предметов. Смотреть на них было бы увлекательно-жутковато на экране компа, зная, что все это не на самом деле. Но предметы были совсем рядом. Не на экране. И были они более чем реальны.
А в-третьих… ему было страшно, вот что в-третьих. Это было детским, идиотским поведением, но как-то само собой вполне всерьез думалось: «Если не шевелиться, то этот, который сидит за столом, про меня забудет».
Сидевшего за столом крупного, массивного мужчину с толстым короткостриженым затылком Сашка знал. Его фамилия была Хузин. Правая рука Балабанова, почти все время отиравшийся в поселке. Бандосы тут менялись каждые несколько дней. Хузин – почти не отлучался. Занимался торговлей, экспроприациями, просто ездил по улицам в здоровенном джипе, для которого не жалели топлива. Обязательно присутствовал на всех казнях… Сашку тряхнуло, руки ответили болью, но намного страшней боли были воспоминания. Казни он видел несколько раз. И один раз видел, как Хузин казнил на гильотине двух мальчишек, братьев. За то, что они неудачно пытались убежать с завода. Младшему было лет десять-двенадцать, старший – примерно ровесник Сашки…
Хузин обернулся из-за стола, за которым он что-то читал при свете лампы на длинном кронштейне, на звон цепей. Сашка обмер. Очень четко отпечаталось в мозгу: Хузин читал «Унесенные ветром». Сашка что-то слышал про эту книжку… или про кино, что ли?
– Пришел в себя? – Хузин встал, но от стола не отошел – это само по себе было облегчением. – Ну вот и поговорим. А то я уж месяц за тобой слежу… бегаешь, бегаешь чего-то куда-то, суетишься… а потом как сквозь землю пропадаешь…
«Про наших ничего не знает, – с облегчением подумал Сашка. – Спасибо тебе, лес…» Но тут же пришел такой ужас, что мальчишка буквально заставил себя «зажать» все в животе – чтобы не рвануло наружу через все дырки.
А ведь он про это и будет выпытывать. Потому что знает. Как раз точно знает. Но не догадывается где.
Если бы можно было умереть по своему желанию, Сашка сделал бы это немедленно. Но мог он лишь бессильно наблюдать, как по неожиданно тонким губам, не подходящим к одутловатому, свиному какому-то лицу Хузина, расползается улыбка.