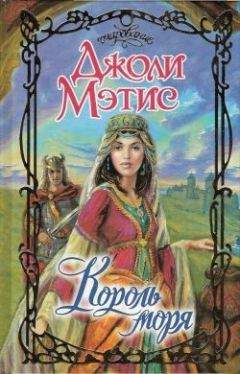обличиях, и такой тоже, и даже – когда мешаются больше одного. Франсиско Альварес де Толедо не был дураком, но боялся он сейчас двух вещей, и эта ночная буря была меньшей из его страхов. А вот что было большим, она угадать не могла, только чувствовала эту раздвоенность.
Одиль тоже знает того, чья эта ночь, по имени. Помнит, как рассказывал Ксандер про ночь раз в семь лет, про корабль, что не подходит к берегу, и не может никого увести, помнит это небрежное пожатие плеч, это уверенное хмыкание. И очень пытается, но не может совместить это со сжатыми до боли пальцами Лотты и озабоченной хмуростью Йонатана ван Страатена. Тоже, заметим, наследника крови, и, если Одиль не ошибается – наверняка и пробовавшего доплыть как-то до проклятого корабля – или видевшего, как пытался доплыть другой.
Стоп. Но ведь Ксандер тогда сказал, что «Голландец» не уводит никого из своих, а вот про Альба поручиться отказался. Совместив это со словами Лотты, Одиль слегка себе мысленно кивнула: сошлось.
– Спасибо за беспокойство, Лотта, – мягко заговорил Алехандро. – Но выбора нет. Тем более что там, – он глянул в сторону окна, – есть и другие враги, и может быть, с «Голландцем» нам повезёт больше, чем с ними.
– Ты думаешь?.. – начал нахмурившийся Йонатан, но Алехандро коснулся пальцем губ, покосившись на неё, Одиль, и фламандец умолк, отвернувшись к брату.
Много, много страха в этой комнате, столько же, сколько гудения в её голове, и ничему из этого она не знает причин. Отвратительное ощущение. А больше, чем люди говорят, не узнаешь. Это в сказках искусство менталистов так могуче, что они могут прочесть любую мысль, подчинить себе зараз целую армию, заставить склониться самую гордую голову. В сказках. В жизни – даже в хрониках – армии подчиняются уставу, мысли приходят сами, а головы клонятся перед теми только, перед кем надо. Какие бы слухи ни ходили про её отца, сам он полагался больше на простую наблюдательность и логику.
Сейчас этого было катастрофически мало. Малости хватало только на то, чтобы увидеть, что – как Альба и подозревают, во всяком случае, Франсиско – ван Страатены и в самом деле предполагают, кто виноват в исчезновении Фелипе. И сейчас минхеер Йонатан тихонько говорит с братом о том, что хуже – если они успеют найти этих самых виновных и подозреваемых, или если не успеют, а ещё о том, что подозреваемых может быть больше, чем хотелось бы. И примерно о том же, кстати, говорят и другие братья – те, что Альба.
Многое можно увидеть, если знать, куда смотреть. Её – учили. Осталось узнать, достаточно ли хорошо.
Никто из них не смотрел на Одиль, и это было прекрасно. Потому что это значило, что можно тихонько выскользнуть за дверь, пусть даже под дождь и гром с молниями, и помчаться – бегом, бегом – к большому дому, к его сараю с велосипедами. Желательно как-нибудь так, чтобы плещущееся содержимое головы не слишком болталось и можно было немножко подумать.
Альба хотят найти Беллу и Фелипе. Наверняка не только это, но этим они удовольствуются, кто бы ни был виноват, подумала она, уже дергая на себя калитку двора.
Ван Страатены хотят того же… может быть, не все, кто-то из них был бы не прочь, чтобы Фелипе не нашёлся, но таким результатом им удовольствоваться придется – как и Альба, всего они не получат, это никому не дано. А вот чего они хотят – это чтобы пропажа обнаружилась, но каким-то чудом – без тех, кто пропажу устроил. Своих не подводят, это она по Ксандеру узнала достаточно.
И сделать это чудо может только Ксандер, решила она, открывая сарай. Если будет знать, что должен его совершить – но это уже её дело.
Прижимая левой рукой к себе велосипед, она на мгновение зажмурилась, вспоминая всю теорию мэтра Баласи. Перед её мысленным взглядом то медленно, то с нетерпеливой резкостью, но стали возникать черты символа – так, церковь, она помнит церковь, нет, не то, про неё известно не так много – кафе, да, так лучше: вход в кафе, где они так долго стояли. Так.
Она распахнула глаза и нарисовала символ на двери сарая – четко, но быстро, чтобы не успела дрогнуть рука, а когда он запылал живым холодным милориевым светом, припечатала его ладонью, распахивая и дверь – прежде, чем засомневаться.
Дверь кафе была не заперта, и она чуть не провалилась в темноту, споткнувшись о порог. Торопливо сжав звякнувший звонок велосипеда, она осторожно прислонила его к кадке снаружи и заглянула внутрь. Внутри всё было тихо и темно: если хозяева и жили здесь, над своей кофейней, то уже наверняка спали.
«Два места – кофейня и кабак… там спуск к каналам».
Здесь было слишком глухо для явочной квартиры, и на неё вдруг накатила холодная усталость. Где были эти самые каналы, она даже вообразить не могла. Нет, будь у неё в распоряжении много часов, она бы попробовала их найти – в этих подземных улицах текли заточённые речки, а все речки в Нидерландах были плоть от плоти Рейна, но одно дело – смутное чутье, что что-то такое тут есть, и совсем другое – найти вход. Реки, в каких бы родственных отношениях с ними ни находиться, не имеют свойства общаться человеческим языком.
Она успела обругать себя последней дурой за то, что не догадалась договориться с Ксандером и его невольными проводниками о внятном месте встречи, когда в глубине кафе, вдали, словно бы из-под земли, мелькнула светлая тень от фонаря.
Пробираясь наощупь и стараясь не опрокинуть какой-нибудь стул, она осторожно, шаг за затаенным шагом, стала красться туда, откуда мелькнул свет. Тот почти уже исчез, оставив по себе едва намек, но этот намёк вел куда-то вниз – подвал? Погреб? Поколебавшись секунду, она стала спускаться, держась за всё более потеющую влагой стену, пока не оказалась – нет, не в погребе, а в каменном коридоре, оказавшемся – в замеченном ею призрачно-теплом свете – частью непонятного ей пока лабиринта.
– … считаешь Райнхарда нормальным?
Услышав этот хриплый, тихий, будто сорванный голос, Одиль вжалась в тёмный угол, благословляя свою худобу и надеясь, что незнакомцы пройдут мимо. Их и видно не было – только тени в отблесках пламени, то ли от факела, то ли фонаря – но одно утешало: они не были иберийцами, никто её не опередил: говорили они на галльском.
– А почему бы нет? –