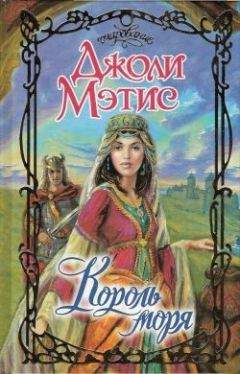сводами любой звук может разнестись дальше, чем нужно.
– Ни то и ни другое. Нам далеко?
– Здесь всё недалеко.
– Лучше бы ты ему дала символ того места.
Флора не обернулась, поэтому лица её видно не было, но по голосу стало ясно – она хмурилась.
– Я его не знаю. Да и откуда бы?
Одиль примолкла. До сих пор она думала – точнее, нет, умом-то всё осознавалось иначе, но подсознательно, мир для неё делился на магов и вилланов, и хотя она понимала, что маг, каждый по отдельности, может не владеть всей наукой их народа, но уж точно базовая доступна всем. А ещё она забыла, как много узнала в Трамонтане за этот год, и слишком многое стала воспринимать как должное.
– Извини.
Флора махнула рукой, всё ещё не оборачиваясь.
– С давних пор так пошло, что если кто-то из нас хочет что-то знать, чего не расскажет бабка в твоей деревне, надо идти на поклон к иберийцам. Приходится выбирать.
Одиль кивнула в ответ этой неприкрыто безнадёжной правде, и подумала, какой выбор сделала бы она сама. Лишиться шанса знать или встать на колени – что ж, унижение её не пугало, но, справедливости ради, она не жила в нём. Понять раба, борющегося за свободу, где только это можно и как только удаётся, может только тот, кто хоть шаг сделал по его дороге.
– Мне жаль, – сказала она то единственное, что могла сказать по праву и искренне.
Флора дёрнула плечом – не плавно и кокетливо, как всё, что она делала рядом с мальчиками, а с угловатой резкостью.
– Прибереги жалость. Она товар особый, не всем нужен, и не ото всех.
Так могла бы сказать Леонор, к которой Одиль с жалостью не лезла и потому сейчас прикусила язык. Очень вовремя: похоже, они прибыли – от самой воды вели куда-то вверх, под низкий дверной проем, ступени, а из-за двери раздавались голоса, и притом изрядно раздраженные. Флора ловко прикрутила лодку к позеленевшим кольцам в стене, и обернулась – то ли помочь Одили выбраться, то ли посмотреть, как та будет одолевать лёгкую качку и скользкий камень. Одиль удовольствия ей не доставила – с маленькой злорадной благодарностью мадонне Венеции, которая учит своих детей сызмальства и этому, и много чему другому.
Таиться у двери и подслушивать времени не было, и Одиль её толкнула; она подалась на удивление легко, и она тут же шагнула в комнату, освещённую таким множеством свечей, от толстых, как в церкви, до огарков, что она поморгала, как сова, застигнутая дневным светом.
Комната была большой и, судя по каким-то бочкам и ящикам, попутно служила складом или погребом, если не схроном контрабандистов. На последнюю мысль Одиль навели её нынешние обитатели: числом полудюжина, как один суровые, со статью моряков, обветренными лицами и жесткими глазами – что мужчины, что женщины. Они держались по стенам, некоторые – сидя, а некоторые – подпирая спинами. Только один угол был пуст, и там, стараясь выглядеть непринуждённо и гордо, стояла Белла. А посередине, освещённый всеми этими свечами и словно притягивая к себе их свет, стоял Ксандер.
– … должен знать, где он – чтобы спасти вас всех! – услышала она, открывая дверь.
Сидевший напротив Ксандера человек, похожий на грубо вырезанную из просоленной коряги ростру, только сплюнул.
– Мы тут в спасении не нуждаемся, – сказал он. – Сами, знаешь ли, с усами, Альба нам не указ… А это кто?
Это он спросил про неё, Одиль; Флора, заметила она, за ней подниматься не стала.
– Мой друг, – сказал Ксандер так, что Одиль бы поклялась: наверху сейчас ударила молния.
– Кто для вас Альба, вы решите сами, – сказала она: не стоило нестись сюда, чтобы тянуть. – Они идут сюда, я ненадолго их опередила.
Сообщение никого, предсказуемо, не удивило – только Белла вздёрнула голову повыше, как будто её родичи были уже у дверей, и не одни, а во главе одной из знаменитых иберийских терций.
– Тогда и нам пора, – усмехнулся собеседник Ксандера, от которого эта новонайденная горделивость тоже, конечно, не ускользнула. – Заодно и иберийскую девчонку прихватим. Лишней не окажется. Ты с нами, принц, или подождешь хозяев?
Белла возмущённо нахмурилась и шагнула в его сторону, словно собираясь что-то сказать – наверняка по-иберийски надменное и непоправимое.
– А ты молчи, – сказал ей Ян, почти не глядя в её сторону. – А то рот заткнут.
Одиль чуть не сказала им, что они сошли с ума. Что как бы ни простирались каналы, и какие бы ещё укрытия ни скрывались под дамбами, их найдут, перероют все Нидерланды заново, лишь бы найти. Что это должен был понимать каждый, у кого есть хоть капля ума и хоть немного самосохранения, какое природа, несомненно, дала всем, кто дожил до взрослого возраста. Но посмотрев на оставшегося пока ей неназванным мужчину, она говорить не стала ничего. Застарелая, выстоянная ненависть, которой от него полыхало, как жаром от печи, говорила сама, и яснее ясного – с безумием не рассуждают.
Ксандер и не рассуждал. Он не шагнул вперед, не выпрямился в попытке казаться выше, как это часто бывает, не сжал кулаки – вообще ничего. Только волосы его светились в сиянии свечей, не буйным огнём, а властным спокойствием солнца, и глаза его были холодны, как его родное море.
И глядя на него, немы были все, даже разъярённая Белла.
– Я не принц, – сказал он. – Я король по праву. И ваш пленник под моей защитой. Враг он или нет, решать мне. Не вам, Ян, и не моей матери – мне. Где он?
Ян встал с бочки, на которой сидел, и сощурился, и на побагровевшем лице ясно проступил широкий, пересекающий всю щеку шрам. Это Винсента Ксандер тогда сгреб в охапку, а здесь шансов на вколачивание ума не было никаких: Ян был Ксандера на полголовы выше и раза в два шире в плечах, и, судя по мощным как у мясника рукам, силы в этом превосходном теле было более чем достаточно.
Ксандер, впрочем, ни о чём подобном и не думал. Он всё ещё стоял спокойно – как охотник перед медведем, пришло Одили на ум сравнение: один из двух уже определил судьбу обоих, и, несмотря на силу, это был не медведь.
Минуту они так молчали, и наконец Ян сплюнул.
– Как знаешь. Охота спасать врагов – пусть на твоей совести и будет. У старого маяка он.
– Прилив, – вырвалось у Ксандера.
– Точно, – Ян снова усмехнулся. – Договоришься с морем и