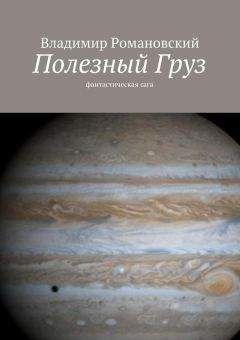– Зачем же. Верю.
– Черт с ним, с задержанным! Не велика пропажа, да и позор весь твой, Муравьев. Понял? Мне насрать, кого ты повязал! А вот то, что мне из «Мечты» звонили по поводу помощницы – это, Муравьев, гораздо серьезнее.
– Боюсь, что не улавливаю…
– Не наглей! Звонят и говорят – «избита помощница одного из основателей, старший технический директор». До чего ты дошел, Муравьев! Женщин бьешь!
Пиночет хотела вмешаться, но Муравьев остановил ее рыцарским жестом.
– Уволить меня, полковник, вы можете хоть сейчас.
– Не провоцируй, Витёк! Не серди меня.
– Считаю своим долгом доложить вам, что человеку с вашим стажем следует быть знакомым со сленгом законников, который так любят перенимать заправилы больших компаний.
Возникла пауза.
– Чего? – спросил Багратион.
Муравьев пожал плечами и объяснил:
– «Старший технический директор» означает: секретарша, которая официально спит с женатым боссом. «Избита помощница одного из основателей» означает: секретарша кому-то нахамила и в ответ получила слегка по мордасам. А с чего вы взяли, что именно я с ней сие произвел – загадка славная.
Полковник нахмурился.
– А если секретарша спит с боссом, а босс не женат, тогда как ее называют?
– Аспирантка.
– Что-то не пойму я. Ты, Муравьев, не бил ее?
– Зачем мне ее бить. Какая мне от этого корысть, полковник?
– Не врешь? Я ведь проверю.
Пиночет посмотрела на Муравьева, а Муравьев твердо сказал:
– Вот свидетель. За время нашего пребывания в вестибюле «Мечты» любовницу босса никто и пальцем не тронул. Ни я, ни тем более … – он глазами указал на Пиночета.
– Ну, на нее-то как раз думать глупо, – Валентин Ираклиевич отмахнулся. – Кирасиры – люди дисциплинированные, рук не распускают почем зря. – И недовольно покачал головой. – Ладно, Муравьев, иди разбирайся, кто и почему там сбежал. А я пока позвоню. И вы, сударыня, сделайте милость, идите с Муравьевым, и следите за ним, а то он опять дров наломает, есть у него такая привычка.
Муравьев хотел возразить, но передумал. Багратион непременно бы начал болтать об ограблении ювелирного магазина, о провале сыщиков, и хотя виноват во всем тогда был именно полковник, он, Багратион, убедил всех и себя, что виноват Муравьев, и время от времени упоминал эту историю, иллюстрируя некомпетентность своего подчиненного.
На лестнице, ведущей в прелиминарий, Муравьев сказал Пиночету:
– Быстро. Числится ли в «Мечте» Алексей Вяземский?
Она быстро связалась с кем-то, перекинулась несколькими жаргонными фразами, которых Муравьев не понял, спросила «Где он?», кивнула, отключила связь. И рапортовала так:
– Вяземский весь день был на месте и сейчас на месте. Выглядит вот так, – и она показала Муравьеву дисплей, на котором светилось изображение брюнетистого парня с худым лицом и глазами навыкате.
– Как с картины Босха, – сказал Муравьев. – Нехорошо это. Кстати, Пиночет, в «Мечте» камеры висят везде, и есть наверное запись с вами в главной роли, когда вы тиуниху лупили.
– Предусмотрено, капитан. В записи помехи. Начинаются как раз перед нашим с вами приходом в «Мечту». Вы за меня переживаете? Как это благородно с вашей стороны!
– Ладно, пойдем к ордынцам. И все-таки, сударыня, поделитесь секретом. Зачем ваши коллеги вас ко мне прилепили?
– Я ж сказала, капитан. Епитимия.
– Не треплитесь попусту.
– Да чем же не епитимия? – удивилась она. – Вот сейчас спускаемся в прелиминарий, откуда наш потенциальный свидетель, а может и соучастник, эскапировал: чудовищная некомпетентность со всех сторон. Я не привыкла к такому. Это очень задевает мои эстетические принципы, я мучаюсь.
Муравьев даже не стал одаривать ее скептическим взглядом. Любят кирасиры темнить, обожают просто, по старинной традиции, корнями уходящей не в ЧеКа, не в царскую охранку, а в темперы гораздо более от современности дистанцированные – по меньшей мере к опричникам.
Расспросили троих ордынцев в прелиминарии, с лицами провинившихся двоечников. Задержанного, оказывается, отправили в клетку давеча, наручники с него сняли. Целый час сидел Лжевяземский в клетке совершенно безобидно и вел себя прилежно, жевал колбасу протухшую, а потом попросил поесть существенно. Время сделалось обеденное, и ничего предосудительного в просьбе ордынцы не нашли, да и вообще парень оказался свойским, веселым, рассказывал анекдоты, да и деньги заплатил за жратву. То есть, не заплатил, а попросил изъять из изъятого у него дотоле бумажника. Изъяли, и приволокли из соседнего брассери неплохие трежники в оливковом ликвенте, с огурцами и укропом, как положено, и тверского квасу. От кваса задержанный отказался, сетуя, что желудок не примет. Открыли клетку, занесли, начали расставлять, и тут задержанного как подменили. Он совершенно оборзел и стал всех кидать и пинать, и отобрал оружие; положил всех на пол, еще немного попинал, а потом так шарахнул дверью клетки, что стенной шкафчик, содержащий припасы на случай тревоги, тридцать лет безропотно висевший справа от стола дежурного, сорвался, упал на пол, и развалился на три части, а один из дежурных закричал страшным голосом и на несколько секунд потерял сознание. После этого задержанный, вместо того, чтобы подниматься по лестнице и быть справедливо пойманным и скрученным теми, кто наверху, сломал стол и шкаф с документами, разнес в щепки окно напротив клеток и вылез через него, раздвинув железные прутья, как Самсон, и с тех пор никаких сведений о нем не поступало.
Ордынцы собирались было еще что-то рассказать, но тут пришла решительная жена одного из них и устроила ему выволочку, потому что на работе можно задерживаться ну раз, ну два раза в неделю, но четыре раза подряд – это просто издевательство над ней, над детьми, и снова над ней, потому что это делается специально в виду полного отсутствия совести и ответственности. Можно подумать, он тут занят работой. Был бы занят – семья бы была обеспечена. Целый день ничего не делает, а когда приходит домой, что бывает редко, так сразу к телевизору с пивом, смотреть свой ебаный футбол, и гладить свою вонючую собаку, которая весь дом обосрала. При этом еще неизвестно, чем он тут на самом деле занят, потому что кругом шлюхи, вот одна стоит, к примеру, дылда в кожанке, а честность свою он может положить себе в жопу, поскольку ничего, кроме изжоги честность эта в дом не приносит.
На улице Муравьев встал как вкопанный, соображая, что делать дальше. Пиночет попритоптывала некоторое время рядом, а потом спросила:
– Ищем беглеца Лёшу?