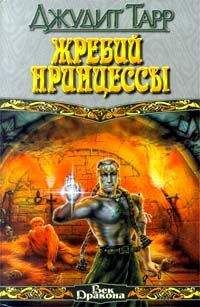Теперь он всегда знал, где находится Марджана, как он знал, чего касается его рука. Он сказал, обращаясь к воде, но частично и к ней:
— Я очень мелкое создание, когда дело доходит до серьезного испытания.
Она уронила что-то на него: халат из тяжелого, блестящего алого шелка.
— Но очень приятное на вид, — добавила она, — и не более стыдливое, чем животное.
— Почему нет? Мне нечего скрывать.
— Пророк, да будет с его именем благословение и мир, был стыдливым мужчиной. Мы следуем его примеру.
Айдан сел, закутавшись в халат. Он был отделан более светлым шелком, бледно-золотым — по краям вышиты драконы. Он был очень хорош на вкус Айдана.
— Значит, он был уродлив?
— О, нет! — казалось, эта мысль потрясла ее. Он был очень красив. Он был немного похож на тебя: благородного вида араб, и нескоро поддававшийся возрасту.
— Ты знала его.
— Я не была столь благословенна. — Сейчас она была одета в зеленое. В нем она выглядела много лучше, чем в белом. Намного теплее; намного менее нечеловечна.
Она не отрицала, что была достаточно стара, чтобы видеть Мухаммада.
— Я могла, — признала она. — Я не помню. Я была немногим больше, чем ветер в пустыне, пока мой господин не нашел меня и не сделал меня своей. Я ничего не помню о том, как была ребенком. Кто знает? Может, никогда и не была.
— Моя мать была такой же, — сказал Айдан. — Дикое существо, почти лишенное собственной личности, пока смертный человек не дал ей причины жить в смертном времени.
— Она умерла вместе с ним?
— Нет. Она… исчезла. Вернулась в лес. Нас — моего брата и меня — она покинула. Мы были наполовину смертными, и воспитаны среди смертных, хотя мы достаточно рано узнали, что сами — не смертные. В отличие от нашей сестры.
— У тебя есть сестра?
Это отозвалось в нем болью.
— Гвенллиан. Да. На десять лет моложе меня, и она уже состарилась. Ты убила ее сына.
— Я была связана клятвой, — промолвила она. — Несомненно, ты знаешь, что это такое.
Он согнул колени и лег на них лбом. Он устал. От борьбы. От ненависти. От скорби по человеческим смертям.
— Таковы люди. Они дают нам боль.
— И счастье, — ответил он. — И это тоже. Быть может, это и значит — жить?
— Я не знаю. Я не думаю, что когда-либо жила. Лишенная собственной личности — да, это я. Я была кинжалом и клятвой. Теперь я даже меньше, чем это.
Он вскинул голову. Его гнев вспыхнул неожиданно и ярко.
— Нет!
Он изумил ее. Но вскоре на смену изумлению пришло ожесточение, губы ее искривились.
— Нет. Я все еще остаюсь чем-то. Существом, которое ненавидят.
— Я не… — Он осекся. Он не мог сказать это. Это была бы ложь.
Если не считать…
Айдан встряхнулся.
— Ты — больше, чем это! Посмотри вокруг себя. Посмотри на свою подругу; посмотри на Хасана. Разве они не достойны чего-либо большего?
— Один друг, — сказала она, — за сотню лет.
— Сотню лет чего? Кинжала и клятвы. Служения повелителям, которые никогда не видели в тебе ничего более. Но ты — больше; твое сердце знает это. Оно нашло Сайиду, и у нее есть разум и душа, чтобы понять, что ты такое.
— Убийца детей.
Это было больно — получить эти слова обратно в лицо. Это не должно было вызвать боль. Это должно было пробудить торжество.
— Да, будь ты проклята. И больше, чем это. Никто из нас не прост, госпожа моя.
— Ты можешь так говорить?
— Ты хотела, чтобы я ясно видел тебя.
Она застыла. Ее трясло; это был жар страсти.
— Я хотела, чтобы ты любил меня.
Он коротко подстриг бороду, но брить ее не стал. Это был бы нечестный прием; и его клятва не была выполнена. Еще нет.
Он решил, что ему это нравится: борода была достаточно короткой, чтобы обрисовать очертания его лица. Она прибавляла лет и достоинство, и то, и другое могло ему пригодиться. Помимо всего прочего, как говорили женщины, он был мужчина, а мужская красота не может быть совершенной без бороды.
Иногда мусульманские обычаи оказывались на удивление разумными.
Марджана иногда покидала их, уходя своими путями, по которым никто не мог последовать за нею, чтобы принести еду, напитки иные, нежели вода из источника, и прочее добро. Однажды она принесла кувшин вина и лютню.
Айдан узнал лютню, когда она положила ее к нему на колени, и нежно, очень нежно провел рукой по инкрустации на ее корпусе.
— Где ты взяла ее? — спросил он.
Украла, подразумевал он. Марджана не захотела попасться на подначку.
— Я отправилась в место, где известны такие вещи, и спросила, где я могу найти лучшего мастера, делающего лютни. Я пошла туда, куда мне указали. Я заплатила золотом. Моим собственным. Честно заработанным.
Айдан опустил глаза. Он был достаточно тактичен, чтобы устыдиться. Легко, почти неуверенно, он провел рукой по струнам. Лютня была настроена.
— Я не могу принять ее, — сказал он.
— Разве я сказала, что это дар?
Он покраснел.
— Играй для меня, — приказала она ему.
Он был достаточно сердит, чтобы повиноваться, и достаточно дерзок, чтобы выбрать мелодию своей страны. Но Марджана путешествовала далеко; она научилась находить удовольствие в обычаях, которые были чужды для обитателей востока. Это была мелодия для арфы, бардовская музыка, но она хорошо ложилась на строй лютни.
Марджана смотрела на него в молчании. Он давно не играл: не раз его руки ошибались. Но играл он отлично, с сосредоточением прирожденного музыканта. Он был захвачен музыкой — голова его склонилась, губы сжались в линию, пальцы двигались увереннее, вспоминая аккорды.
Когда он запел, она почти вздрогнула. Она не знала, почему ожидала, что у него будет чистый тенор: в разговоре его голос был достаточно низок, с легким призвуком мурлыканья. В пении хрипотца исчезала, но эта новая чистота звучала в тембре, близком к басу. Несомненно мужской голос, темный и сладкий.
Вся ее сила ушла на то, чтобы удержаться и не коснуться его. Он сопротивлялся ей отвратительно просто; ему стоило только вспоминать свою франкскую женщину и ребенка, которого она носила. Он не был похож на смертных мужчин, не шел на поводу у своих прихотей.
Но он смотрел на нее. Она знала это. Он находил ее приятной на вид. Он начал, не совсем по своей воле, забывать ненависть к ней, если и не любить ее. И он желал могущества, которое было у нее, чтобы переноситься в мгновение ока из пустынь Персии на базар Дамаска.
Она с радостью научила бы его меньшим умениям, чтобы отточить лезвие силы, о которой он всегда думал, как о детской игрушке. Но это единственное великое искусство она не могла ему дать. Она знала, что он будет с ним делать.