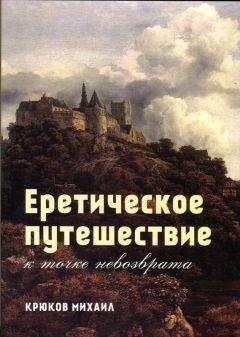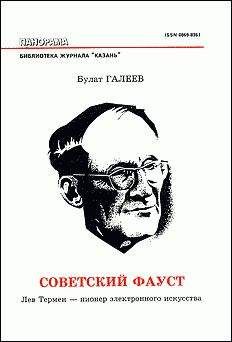Вольфгер вздрогнул: в голосе связанного, избитого человека звучало столько силы, страсти и фанатичной убеждённости в своей правоте, что барону на секунду показалось, будто все они — подсудимые, а Штюбнер — обвинитель.
Голос Берлепша, прозвучавший сухо и скучно, развеял наваждение:
— Святой отец, ты записал показания взыскуемого Штюбнера о богомерзком преступлении — избиении беззащитных монахинь?
— До последнего слова! — взволнованно подтвердил тот и перекрестился, — они приняли воистину мученический венец!
— Позвольте мне, господин комендант, — сказал Вольфгер.
Берлепш кивнул и отошёл в сторону, пропуская барона.
Вольфгер наклонился над Штюбнером и заглянул ему в лицо. Тот смело встретил взгляд.
— Почему ты хотел убить меня и моих спутников?
— Я должен был отомстить за гибель моих духовных детей. Ты и твой приплюснутый дружок убили их. За это полагается смерть. Монах подвернулся под руку случайно, а девок твоих мы бы не тронули. Наверное…
Вольфгер подавил жгучее желание ударить Штюбнера и, с трудом сдерживаясь, задал следующий вопрос:
— Откуда ты узнал, что это сделали мы?
— На стене было не двое, а трое часовых, про третьего послушница не знала, а у него хватило ума спрятаться и досмотреть представление до конца. Дождавшись, когда вы уедете, он побежал навстречу мне и рассказал всё. Мы не пошли в монастырь, дурню было ясно, что туда вот-вот заявятся из города стражники.
Мы укрылись в лесу и дождались, пока вы проедете мимо, а потом следили за вами всю дорогу. Сначала я хотел напасть в пути, но с вами было слишком много солдат, и я решил не рисковать своими последними детьми. Потом мой прознатчик подслушал, что вы едете в Вартбург, чтобы встретиться с Лютером. Тогда я решил выжечь сразу всё гнездо, но мне не повезло. Господь отказал мне в счастии мести.
— Ты знаешь, что тебя ждёт?
— Догадываюсь, но ты думаешь, я боюсь? Да, моя презренная плоть дрожит, но дух… дух радуется, ибо скоро я войду в светлые врата, открытые для меня и для чад моих Господом. А вот у тебя под ногами уже разверзлась геенна огненная. Слепец! Ты ещё не видишь её, не обоняешь запаха пылающей серы и смолы адской, но стоит тебе сделать всего один шаг…
— Заткнись! — небрежно сказал Берлепш и пнул Штюбнера под рёбра. Пленный болезненно охнул и замолк.
— Думаю, господа, больше ничего интересного этот, как его, Штюбнер нам не скажет. Не смею более вас удерживать, а мне предстоят часы скучного допроса, надо же записать все преступления этого нечестивца, прежде чем им займётся палач.
— Что вы собираетесь с ним делать? — спросил Лютер.
— Я? Ровным счётом ничего. Вот закончим допрос, и отошлю с гонцом записи курфюрсту. Пусть он и решает, тут, значит, это, дело государственное: убийство монахинь, покушение на жизнь господина барона и доктора Лютера — не шутка.
— Курфюрст болен, и ему сейчас не до разбойников-перекрещенцев, лучше пошлите записи Спалатину, — посоветовал Вольфгер, — в конечном счёте, решение всё равно будет принимать он.
— А и правда! — обрадовался комендант, — светлая всё ж-таки у вас голова, ваша милость, я бы отродясь не додумался! Так и поступим!
— Пойдёмте, господин барон, — вздохнув, сказал Лютер, и тяжело встал. — Сегодняшний день для работы всё равно потерян, а мы с вами так и не поговорили. Пошлите слугу за вашим капелланом.
— Он ранен, — покачал головой Вольфгер. — подвергся нападению людей Штюбнера, когда шёл из церкви.
— Весьма жаль, — довольно равнодушно, как показалось Вольфгеру, ответил Лютер, — что ж, значит, мы будем говорить вдвоём. Или вы желаете пригласить ваших дам?
— Дам? Нет… А вот то, что отец Иона не сможет принять участие в нашем разговоре, очень обидно — он долго ждал его и тщательно готовился, а я, увы, в теологии не силён…
— Так у нас будет теологический диспут?! — поднял брови Лютер, — это становится всё более интересным. Я уже не жалею о несделанной этим утром работе. Прошу в мою келью! Я живу в доме управляющего замком, это вон там.
* * *
Комната, в которой жил человек, бесстрашно вступивший в борьбу с престолом святого Петра, вдохновитель Реформации, поразила Вольфгера. Она больше походила на тюремную камеру, чем на монастырскую келью, не говоря уже о дворцовом покое. Маленькое холодное помещение с узким окном, голые стены в пятнах и потёках, неровный каменный пол, стол, заваленный рукописями и книгами, стул, пара табуретов, в углу кувшин с водой и медный тазик. За отдёрнутой занавеской даже не кровать, а деревянные нары. Ни шкафа, ни сундука, одежда висит на вбитых в стену крючьях.
Лютер заметил удивление барона и улыбнулся:
— Это хорошая и удобная комната, я привык к ней. В Чёрном монастыре августинцев у меня не было и такой. Я ведь из крестьянской семьи и привык к скромной жизни. В Виттенберге у меня есть дом, и он гораздо больше того, что мне нужно. Но там я доктор университета, я обязан принимать гостей, студиозусов, у меня бывают приходские священники, заходит бургомистр… А здесь я просто гость, у меня есть всё, что мне потребно, здесь тихо, как в раю, и хорошо работается.
Я ведь гощу в этом замке второй раз. Четыре года назад было хуже. Тогда я был вынужден скрываться под личиной тупоумного мелкопоместного дворянчика. Ох, господин барон, как это было мучительно! Чтобы не выдать себя, приходилось охотиться и пировать, изъясняясь на ужасном языке, который только и понимали окружающие. Мой отец любит повторять: «Кто не любит женщин, вина и песен, остаётся на всю жизнь дураком». Так-то оно, конечно, так, но от пьянства и обжорства, которому предавались обитатели замка, у меня потом долго болел желудок, ведь в монастыре и университете я привык к умеренной и постной пище.
А эти охоты! Убивать ради развлечения — тяжкий грех, а для нашего коменданта охота — любимая и, по-моему, единственная забава. Однажды я чуть не погиб: взял на руки раненого зайчонка, а охотничьи собаки почуяли кровь и набросились на меня всей сворой — их еле успели оттащить… Помню, охотники тогда смотрели на меня, как на умалишённого, — рассмеялся Лютер. — Но зато как прекрасно мне работалось здесь! Вы, наверное, уже знаете, что я исполнил здесь труд, который изначально ужасал меня своей грандиозностью, я перевёл Новый Завет на немецкий язык. Насколько я знаю, мой перевод — первый за всю историю Германии. Это нужно было обязательно сделать, потому что у наших бюргеров Писание не в голове, а на голове!
— То есть? — удивился Вольфгер.
— Даже среди священников мало кто знает латынь в достаточной степени для того, чтобы понимать библейские тексты, а что говорить о простых мирянах? — пояснил Лютер. — Молитвы ведь просто заучивали наизусть, не понимая, что именно учат. Льщу себя надеждой, что мой перевод позволил добрым христианам сделать хотя бы шаг к пониманию библейской мудрости. Я не стал переводить на немецкий Вульгату[82] святого Иеронима. Зачем же делать перевод с перевода и повторять чужие неточности и ошибки? Я решил обратиться к оригинальному тексту, и сделал перевод Нового Завета с койне[83]. В одиночку я с такой задачей, конечно, не справился бы, мне помогали Меланхтон и его ученики. Филипп — умница, — с неожиданной теплотой сказал Лютер, — он, как никто в Германии, знает греческий, без него я бы погиб… Вообще, Филипп — моя правая рука! Впрочем, простите великодушно, я, кажется, опять оседлал любимого конька. Давайте перейдём к делу, ради которого вы прибыли. Я слушаю вас.