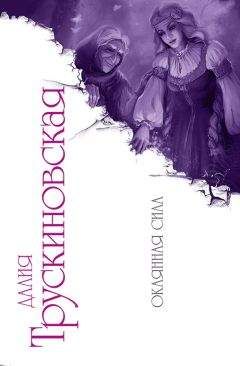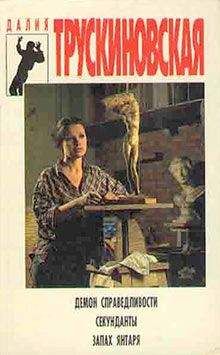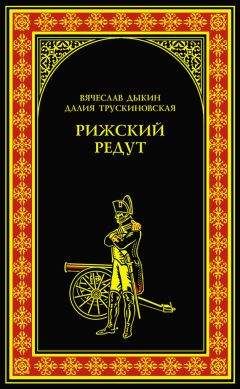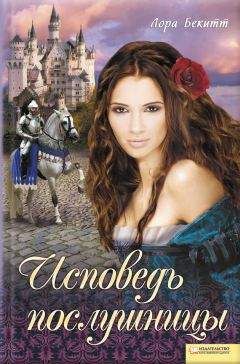Смятенье охватило бедную бабью душеньку. Жар снизу по спине прошел и где-то в горлышке растаял. Голос-то у подлеца Васьки сделался таков, что и ноженьки едва не подкосились.
Хороша же черница — от голосу блудного сомлела!..
Остатки злости своей собрала кое-как Алена, чтобы вырваться, уехать, не вспомнить своего позора вовеки.
— А если я ваше калашниковское имя опозорила? — ядовито осведомилась она. — А если с кабацкой теребенью я его пропивала? Вы же не знаете, не ведаете, где я все эти годы пропадала! И не знаете, не ведаете, какие грехи должна я в обители замолить!
— Не ведаем, — согласилась Любовь Иннокентьевна. — Да только если бы ты нашу честь с кабацкой теребенью пропила — тебя бы сейчас тут не было. Не дури, Алена Дмитриевна, иди за моего Ваську! Хоть свах этих оголтелых разом отвадим. А грехи свои ты и дома замолишь, есть у нас для такого дела крестовая палата. Образов поболее сотни — мало тебе?
Алена опустила голову.
Она так ладно всё придумала, так старательно готовила свою душу к принятию пострига, к примирению со Спасом Златые Власы, — и нате вам, жених, которого она отродясь не видывала! И силой-то к дверям не пробиться — удержит, ручищи вон каковы…
И стоял этот жених перед ней твердо, слегка подбочась, и узорный кушак туго его крепкий стан охватывал, и сапожки кожи лазоревой смотрели носами врозь, немалые сапожки, как и положено здоровому, крепко сбитому молодцу.
Трудно было поверить, что за этого бугая молила она ночью Господа в том возке, трясясь на ухабах:
— Господи, спаси Васеньку!..
— Смел ты, Василий Тимофеич! — Алена вскинула голову. — Коли берешь меня такую, как я есть, ничего обо мне не ведая и ведать не желая…
Какая-то отповедь должна была последовать за этими словами, что-то этакое, язвительное, гневное, но не вышло — купец с весельем перебил ее.
— Ну что ж, Алена Дмитриевна, коли ты пойдешь за меня, такого, каков я тебе на роду написан…
На роду написан!
И вспомнила тут Алена, как у калитки Моисеевской обители возглашала блаженненькая Марфушка, крепко вцепившись в ее рукав:
— Ликуй, Исайя! Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!
Он же и есть — убиенный!..
Румянец прошиб тут Алену — не только щеки и уши, а вся она запылала.
А Василий Калашников стоял перед ней — крепкий мужик, что и говорить, в сочных годах, и под соболиными бровями сияли серые глаза, и кудрявились-завивались темные волосы, и знал он, мучитель, о своей мужской красе, и выхвалялся ею, и воистину был сейчас тем суженым, которого на коне не объедешь — остановит и заворотит любого коня.
И ощутила себя Алена как бы на распутье, только странное то было распутье. Та дорога, что вроде и осталась за спиной, но когтями вцепилась в плечи, повисла, всей тяжестью тянула назад, вдруг отвалилась, уступив все права на Алену новой дороге. Как если бы кроткий Гриша, выйдя сейчас из стены, отрезал ножичком прежний Аленин путь. И расстелился перед ней тот, которым она изначально и должна была бы идти, тот, что и Спас Златые Власы благословил бы.
А Василий Калашников стоял себе — с норовом неведомым, с повадкой незнаемой, с той силушкой, что по всем жилушкам, и одним ожиданием своим одолевал он то, чего многим бесовским и окаянным силам, воспрянь они вдруг, было бы теперь в Алене уж не осилить…
Затянулось молчаньице.
Любовь Иннокентьевна поглядывала то на Василия, то на Алену, и улыбалась, как прилично вдове, — не зубы скаля, а уголки рта приподнимая.
— Ну, сладилось ли, аль нет? — спросила она.
* * *
Диковинная каша заварилась, когда государь Петр Алексеич примчался в Москву бунт усмирять. Еще по дороге донесли ему, что и супруга его венчанная каким-то боком к сему делу пристегнулась. Но, поскольку к возвращению государя воевода Алексей Семенович Шеин, отправленный Боярской думой разбираться с взбунтовавшимися стрельцами, одолел их и казнил более сотни зачинщиков, о том, чтобы добиться подлинной правды, уже речи не было. Правду они унесли с собой в могилу.
Петр, хотя Дуню и удалось обелить перед ним, видеть ее более не желал. Слух о том, что опальную царицу собирались казнить, просочился-таки с Верха и гулял по Москве. Говорили, что заступился Франц Яковлевич Лефорт — впрочем, точно не знали, а глупых домыслов нагромоздили кучу, как оно всегда и бывало, когда в Верху творилось непонятное. Возможно, ее выручило добытое под кнутом признание одного из стрельцов, будто собирались убить не только Петра Алексеича, но и маленького царевича Алексея.
Как Петр изначально собирался отправить Дуню в обитель — так и сделал. Их последняя встреча состоялась даже не в Верху, а неделю спустя после его приезда в доме надежного человека — думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса. Бедная Дунюшка всё еще не понимала, что лучше бы ей без шума уступить и тем выторговать себе хоть какие поблажки… Не помогло заступничество престарелого патриарха Адриана.
Дуню привезли в Суздаль, в Покровский девичий монастырь, при пострижении она получила имя Елены. Денег на содержание не дали — пришлось писать письма родственникам. Со временем удалось ей помочь через ее духовника — архимандрита Досифея.
Петр забыл о супруге окончательно. Впрочем, и на Анне Монс он жениться тоже отказался. Забыв, видно, что кончились те веселые времена, когда совсем юный Петр делил ее нежность с Францем Яковлевичем и не видел в том ничего зазорного, Анна вступила в связь с саксонским посланником Кенигсеком. Это дело выплыло наружу — как ни странно, в прямом смысле слова. Кенигсек, будучи при царской особе во время осады шведской крепости Нотебург, свалился в ручей и утонул. Когда его вытащили, то из кармана достали пачку писем Анны…
В том же 1703 году Петр приблизил к себе женщину, которую трудно было назвать красавицей — была она малого роста, смуглой, полной, черноволосой и черноглазой, но живой и бойкой. Эта шведская полонянка, захваченная при взятии Мариенбурга, жила тогда в доме Алексаши Меншикова на правах не то любовницы, не то служанки. Но Петр, когда речь заходила о близких друзьях, ревностью не маялся — как безоговорочно простил Анне в свое время Лефорта, так простил и Алексашу бывшей воспитаннице мариенбургского пастора Эрнста Глюка Марте.
Она-то и сумела его привязать навеки.
Бывали минуты, когда лишь Марте удавалось сладить с впавшим в бешенство Петром. Она исхитрялась усадить его в кресло, клала ему руки на голову — и вскоре царь, угомонившись, впадал в дремоту. Как она это делала — объяснить никто не мог.
Она, названная при крещении Екатериной, заменила Петру Дуню.