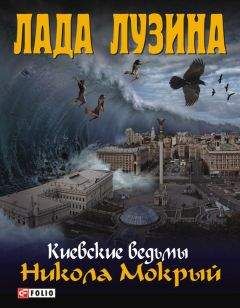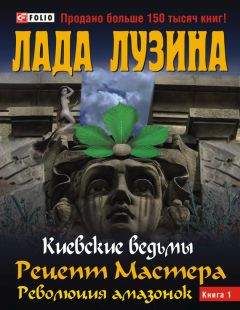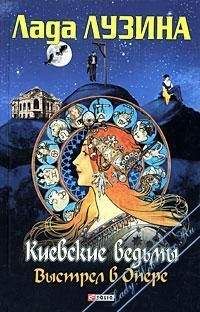— Я тоже на детях не заморочена, — закивала звезда. — Но Маша…
— Да, бедная Маша, — расстроилась Катя. — Как нескладно выходит: все, что нам в радость, ей во зло. Точно нарочно. Врубель ее умер, она во времени с ним разминулась. Ребенок не родится, потому как время стоит.
— Булгаков ничего не напишет. Мир ее — привидение, сволочь, оказывается, — добавила Маше бед Даша Чуб. — Ты в теме? Это он убить нас пытался, под трамваи, под машины пихал. Но нас не убьешь! Нас цепь-змея защищает. Но Машка страшно расстроилась. Она ж ему верила. И нам верила. А мы ее бросили. Я два месяца к ней не ходила.
— Я ее не бросала! — перечеркнула «мы» Катерина. — Я хотела ее с собой поселить. Да она сама отказалась. Оно и верно, у нас слуги, все всюду нос свой суют. «А у себя на квартире, — она мне говорит, — я смогу свои книги спокойно читать, ни от кого не прячась». Опять же — беременность. А она незамужняя. Скандал. Но я к ней что ни день человека посылала, с едой, с деньгами, с подарками, с гостинцами разными. Я ее не забывала! Это она последнее время точно избегала меня.
— Она и мне Ахматову не простила, — сказала Чуб. — И тебе Гинсбурга тоже. Она ж у нас такая, слегка ненормальная. — Даша почесала нос. — Знаешь, чего она мне говорила? Мол, это она во всем виновата. И в моих стихах, и в твоих домах, и в том, что Мира убить не смогла. И теперь за то, что мы его как бы убили, он будет вечно пытаться убить нас с тобой. И единственный способ его остановить — умереть….
— Умереть?! — громыхнула Катя. — И ты так, мимоходом, о том вспоминаешь? Два месяца спустя! Да бог с тобой…
— Бог?! — понадеялась на существованье Всевышнего Даша. — А ты не в курсе вообще, Машка в Бога-то верит?! По Богу ж самоубийство — грех.
— Вроде бы верит. Она во Владимирский ходила.
— Так, может, она в монастырь какой-то пошла? Наши грехи замаливать? На нее похоже!
— И то верно, — придержала свой гнев Катерина. — Я немедленно еду к настоятельнице Флоровского! После — в Покровский. Пожертвую им по десять тысяч. Надо — больше! На колени паду. Пусть только скажут, у них ли она? А если они истинно верующие, объясню, я не против. Просто хочу, чтобы сестра моя не сгоряча это решение приняла, а по истинной вере. Мол, горе у нее. С горя она к вам и пришла.
— А я, дура, не верила, что ты Машку и правда любишь, — покаялась Чуб.
— Главное, — почернела Екатерина Михайловна, — чтобы она от такой моей сильной любви руки на себя не наложила. Оттого что я у нее последнюю надежду, последний исход заберу. Нужно что-то придумать! Может, ей приют какой, для детей…
— Для детей не надо!
— …для нуждающихся организовать?
— Организуем, — поклялась поэтесса. — Все организуем, всем поможем, Богом клянусь. Я ей даже свой браслет подарю! Я все равно не придумала, что им поджигать. Только бы она согласилась академиком стать. Только б точно пошла в монастырь! Только б не покончила с собою уже. Я ж себе не прощу! Понимаешь, когда я грозила покончить с собой, когда ты грозила — это одно. Мне же все равно, как звездить, — так или эдак. Тебе все равно, какие деньги зарабатывать, — доллары, «катеньки». А Маша — другая. То, что все ее добро против нее обернулось, — полбеды. Она б приняла. Но если она однозначно решит, что, сделав как лучше, совершила еще большее зло, — мы ей его на другое добро не поменяем!
* * *
Ни в одном из киевских монастырей Машу найти не удалось.
Я, к сожалению, не герой.
Из дневника Михаила Булгакова
Маша открыла дверь первого 13-го дома на Андреевском спуске ключом, гревшимся у нее на груди.
День за днем она носила его, не зная зачем.
А теперь знала.
«Именем Отца моего велю, дай то, что мне должно…»
Никого не было дома.
Узкая деревянная лестница привела на второй этаж. Маша знала этот дом, знала гостиную, две белых изразцовых печи, два пианино. Знала, что мать Миши и его сестра Варя устраивали в этой гостиной концерты, играя сразу на двух инструментах. Знала, где находится комната мальчиков…
И знала, что стол Миши стоит у окна, а из окна видна гора Киевица — первая Лысая Гора Киева.
Она положила Лиру на стол.
«Кто я теперь? Жертва? Убийца? Ведь я убиваю его… Он умрет второй раз».
Она вышла на улицу.
Посмотрела на стену 13-го дома, где в ее времени, а ныне лишь в памяти висела доска:
В этом доме жил
известный
русский
советский
писатель
Михаил Булгаков
1891–1940
— Писатель, — повторила она, прижимая руку к груди. Ее пальцы коснулись ключа.
Ключ ожег холодом.
* * *
В то же самое время — 13.00 по настоящему времени — из первого 13-го дома на мостовую Андреевского шагнула другая девушка.
И рука ее тоже рефлекторно коснулась груди, где висел — перевернутый крест.
Она тоже скользнула взглядом по мемориальной доске.
Михаил Булгаков
1891–1918
И повернулась к спутнице, выскользнувшей из дверей вслед за ней:
— Благодарю вас, Анна Андреевна, — сказала она тоном отличницы.
— Не за что, милая.
Первая писательница и поэтесса Киева Анна Андреевна Голенко покровительственно посмотрела на свою протеже — золотоволосую, васильковоглазую.
Покровительницу немного смущал перевернутый дьявольский крест.
Но Ани убедила ее, что перевернутый крест означает вовсе не сатану.
— Хотя, — признала писательница и поэтесса, — кабы академик Чуб не был моим другом, вы б вряд ли получили на руки столь ценный для него экспонат. Он фанат Михаила Булгакова.
— Боюсь, — честно сказала Ани, — без вашей помощи я бы вообще не смогла взять его в руки. — Вы — избранная.
— Что вы!.. — с удовольствием смутилась избранница. — В сравнении с той же Изидой Киевской… Немыслимая была женщина! Первая надела шорты. Первой села за руль. Стала первой женщиной-авиатором, сделавшей в небе «мертвую петлю». Дружила с Сикорским! И при этом была Первой поэтессой империи. Вот доказательство: мы, украинки, — великая нация! Мы всегда были склонны к матриархату. И если вы, с моей помощью, докажете на конференции, что мы произошли от амазонок… Как бы я хотела этого, — гортанно попросила писательница. — Еще Изида Киевская доказывала всюду и всем: мы — амазонки!
— Теперь, когда у меня есть брошь и браслет, это не составит труда, — сказала Ани.
— Странно все-таки, — задумалась Анна Андреевна, — как Лира попала к Булгакову? Он же не историк, не археолог. Не писатель. Разве что в пятом классе писал юморески. Он военный, герой. И такая страшная смерть.