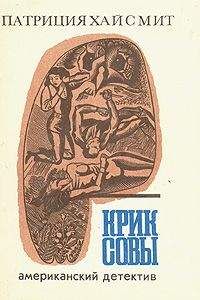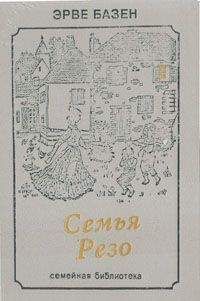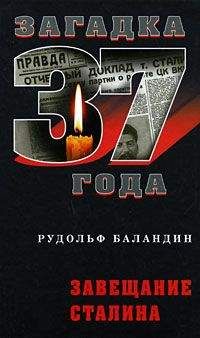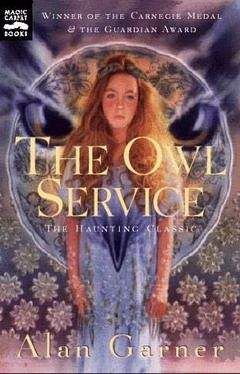- У меня кривые зубы и глаза цвета дерьма, Иветта.
- Почему ты сейчас это сказал?
- Потому что ты почему-то никогда этого не замечала.
- А я умею готовить и специально не готовлю. Ты мне тоже об этом слова не сказал.
- И вообще, нам вместе как-то спокойно и хорошо, - заключили оба, сказав это почти синхронно в один голос.
Ахмелюк швырнул бычок в урну, сел в машину, завел мотор.
- План прост. Квартиру на Высокой ты сдаешь на несколько месяцев, съемщик найдется, если не заломишь огромную цену, а если пустишь мужика, так можешь и цену не сбивать. Знакомая работает в той самой конторке на Маяковского, которая подбирает квартиру, и говорила мне, что даже в Серых Водах дикая проблема с этим, а от Кувецкого Поля и Скобы эти граждане нос воротят. Мой друг смог снять только полдома на этой же самой Подгорной, причем в аварийном состоянии. Дом на Подгорной без удобств, ну да ладно, сейчас лето, задницу не простудишь в уличном сортире. Тебе сейчас не стоит видеть напоминания об этом козле, и важно не то, что ты его любила или не любила – а то, как он с тобой поступил.
- Ты хочешь сказать, что мне моя собственная квартира будет о нем напоминать? – прищурилась Иветта.
- Не совсем. Вернуться в квартиру ты сможешь через месяца три-четыре. Тебе просто поможет смена обстановки. Тебе некогда будет дуимать об этом, ты будешь обустраиваться на новом месте, переносить вещи, привыкать к новому дому… просто времени не найдется. Ну хорошо, не хочешь жить на Подгорной, сними что-нибудь другое сама. Ты меня пойми, это действительно важно, как к тебе относятся и как с тобой поступают, а не то, что тебя там кормят или еще что-то в таком духе. Держись всегда тех, кто принимает тебя такой, какая ты есть. Лень тебе готовить или не лень. Можешь ты рожать или не можешь. Трахаешься сексом ты с ним или не трахаешься. До него тебя все принимали, я знаю.
- И ты? – Она села рядом и тепло улыбнулась ему.
- И я.
- Поехали домой, правда. Я нажарю тебе картошки и переоденусь. Со мной все нормально. Я не буду ничего менять. У меня есть люди, которые меня ценят, и мне этого достаточно.
- Даже если ты меня не накормишь, от этого ничто не изменится. А какое на тебе платье, мне вообще не имеет значения.
- А я и не хочу ничего менять, мне просто хочется о тебе позаботиться. Ты же заботишься обо мне. Просто это ты, Ахмелюк. Ты такой, и я не имею права требовать от тебя чего-то большего. Ты мне ценен как данность.
Он не заметил, что несется по Выездной почти восемьдесят километров в час, и едва не пропустил нужный поворот. В дом не вошли, вбежали, - но не кинулись на кровать в объятиях, как в книжках на амурные темы, Иветта принялась чистить картошку, а Ахмелюк сидел на кухне и молча смотрел на нее.
- Скажи, тебе, может быть, правда этого зрелища не хватало, а ты мне не говорил, потому что уважал мое право лениться? – спросила Иветта, высыпав нарезанную соломкой картошку на сковороду.
- Нет, почему. Я, разумеется, был рад, когда ты мне готовила. Это означало твою заботу. И, кроме всего прочего, было вкусно, у меня в доме никто толком готовить не умеет, кроме сестры, а она живет там, где еще снег только начал таять. Но, знаешь, заботиться из-под палки – это неестественно. Я бы не принял такое. Так что будь собой.
- Я была глупой, - вздохнула она. – Хотела от тебя отдачи. Не замечала, что отдача есть.
- Я не приспособлен для отношений и проживания с женщиной. Даже гостевого.
- Все мы ни к чему не приспособлены.
Она вышла из кухни, наверное, собиралась переодеться. Ее не было три минуты, пять, десять. Ахмелюк дожарил картошку, умудрившись не спалить, съел, вымыл за собой тарелку и кружку, прежде чего решился подняться наверх. Иветта лежала поперек кровати, белое с черными извилистыми полосами платье задралось, обнажив гладкую кожу стройного бедра молодой женщины. Стараясь не смотреть туда, Ахмелюк взял лежавшее на стуле рядом свернутое одеяло, расправил его, снял с Иветты домашние туфли и накрыл ее одеялом, она, сонная, засопела, не открывая глаз, приняла нормальное положение – головой на подушке, ногами к шкафу. Тихо порадовавшись, что замок на входной двери у нее запирается сам, он прикрыл дверь спальни, спешно вышел вниз на улицу, закрыл за собой дверь и быстро, не оглядываясь, пошел к своей машине, стоявшей на противоположной стороне улицы, чтобы не разворачиваться.
Было уже почти восемь часов утра. Через час на «смену» заступит Мансур. Ему оставалось семь часов, чтобы быть готовым снова вернуться в лоно своей теперешней жизни, которое он не был намерен покидать. Иветта проснется через три часа. Ей будет сниться тот сентябрьский костер в заливных лугах. Проснувшись, она сразу все поймет, увидит аккуратно закрытую дверь и горько заплачет. Но этого уже никто не услышит.
V
Букарев сидел в маршрутке и воображал всякие ужасы. Вот наступит, например, мир, аналогичный древней Спарте, только в плане не только тела, а еще и мозгов. Интересно, его сразу отправят в расход или предоставят срок на исправление?
Он четко представлял себе, как получает повестку на «испытания пригодности», включающие в себя допрос на детекторе лжи о своих интересах, затем – бой с качками – кулачный, борьбу, славянские и восточные единоборства, - а затем судилище, где трое старых солдафонов, могущих ударом ладони уложить быка, будут решать его судьбу и отправят на исправление в специальный лагерь, напоминающий смесь армии и зоны, где от армии будут занятия по единоборствам и общефизическая подготовка, а от зоны – понятия, неконтролируемая иерархия, где каждый может безнаказанно и безвозвратно превратить другого в отброс. А может, и не отправят, просто расстреляют или повесят, как неизлечимого. Или вышлют на загнивающий запад с пометкой в документах «педик гомосексуальный»?
- Чувак, если ты не умеешь драться, купи себе электрошокер, - сказал кто-то рядом.
Букарев резко оторвался от окна, где медленно проплывали разваливающиеся от старости сараи и заборы. Голос принадлежал незнакомцу, несмотря на лето, в толстой камуфляжной куртке и штанах, и с непробиваемо суровым взглядом. Таким, какой обычно и бывает у людей, ни во что не ставящих тех, кто хоть как-то отклоняется от требований перечня качеств «настоящего мужика». В общем, тот самый «настоящий мужик», от которого несет душным запахом спортзала и крови.
- А откуда ты узнал, что я не умею драться? – попробовал закрыться от чужого вторжения Букарев.
- Так ты сидишь и бормочешь про какое-то судилище и про качков. Спорили на бой, что ли? – спросил мужик.
- Да нет, - отмахнулся Букарев. – За совет спасибо, пойду.
До его остановки ехать было еще минут пять, они только что проехали Скобу. Но сидеть рядом с этим типом было невозможно. Вздохнув, что «окклюменция» существует только во вселенной Гарри Поттера, он поднялся и поплелся к выходу.
Жара схлынула, по утрам и вечерам было даже прохладно, но Букарев от непонятного волнения обливался потом. Какое, к дьяволу, бормотание? Все настолько плохо, что он уже вслух начинает незаметно для себя бормотать, чего его ждет? Воистину, негде расслабиться. И почему его последние дни стало так напрягать это обстоятельство? Раньше же жил спокойно с этим, отмахиваясь от отцовских нападок и посторонних доброхотов, и ничего, и даже в армию сходил, не сказать, что совсем безуспешно.
Из автобуса он вышел примерно в получасе ходьбы от своего дома, но сам не заметил, как оказался возле своей калитки. С родителями Букарев уже не жил, не потому, что устал бодаться с отцом, а потому, что самому казалось – пора бы уже и честь знать, в двадцать три года-то. Кроме того, и удобнее намного – здесь-то точно никто не будет скандалить по поводу разбросанных по комнате бумаг, исчирканных карандашом и истертых ластиком до дыр, грязных кружек на столе и прочего бытового хлама, которых Букарев, как многие творцы, вокруг себя просто не замечал.