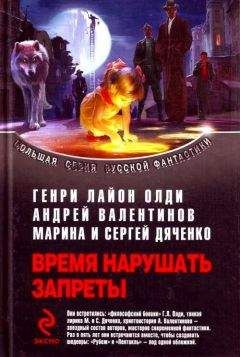— Я успею, — сказал я медленно.
Я отомстил-таки. Два десятка прямоходящих гиен во главе с бригадиром Золотая Узда — и ни один не умер от моей руки. В тот раз роль палача выполнила стая хищных птиц.
А до заказчиков я так и не добрался. Они перерезали друг друга прежде, чем я успел дотянуться до их шей; так или иначе — долг выполнен, цена заплачена, и я не умер… Вернее, умер, но только наполовину.
Властитель подошел к окну. Снаружи сеял и сеял дождь, в комнате потемнело совсем уж по-зимнему, время зажигать светильники.
— Рио, — голос князя снова изменился, сделавшись сухим и отстраненным. — Вы приехали в город издалека… Вы ничего не заметили?
— Заметил, — сказал я после паузы.
— Тучи, — князь смотрел на небо, но было совершенно ясно, что речь идет не о погоде. — Тучи… все труднее дышать.
Я ждал, что он продолжит, — но он молчал, стоя ко мне спиной, поблескивая венцом на темном затылке; не дождавшись объяснения, я заговорил сам:
— Властителю известна причина?
Он резко обернулся. Подошел ко мне, положил мне руку на плечо; я невольно вздрогнул — рука была неожиданно тяжелая.
— Рио… Привезите мне ребенка.
Он снял руку с моего плеча. Громко позвал, обращаясь в пустоту:
— Сале!
Открылась боковая дверь.
Та самая бродяжка, что не так давно переполошила лучшую в городе гостиницу ревом многочисленных оборвышей, стояла передо мной в дорожном костюме. Волосы были аккуратно уложены под шляпу, никаких младенцев не было и в помине.
— Это магическая поддержка, которую я обещал вам, Рио. Она же проводник и консультант.
Женщина изобразила поклон:
— Меня называют Сале… Не шарьте взглядом, у меня нет никаких детей и никогда не было. Уловка, маскарад.
Она поймала из воздуха сверток с кряхтящим младенцем, покачала на руках, небрежно выпустила — сверток растаял в воздухе. Женщина устало усмехнулась:
— Вот так…
Я молчал минут десять. Потом обернулся к терпеливо ожидавшему князю:
— Но… я и мои подельщики давно сплотились, и присутствие чужого…
— Такова специфика заказа, — холодно, совсем по-деловому перебил властитель. — Большой корабль не выйдет из бухты, если маленькая лодочка не укажет дорогу среди рифов. Возвращайтесь скорее, Рио. Я верю в вас.
Старичок в суконных нарукавниках долго рассматривал мою левую ладонь. Пожевал губами, достал из ящичка иглу, зловещую, как орудие пытки, но при этом, видимо, золотую. Примерившись, всадил мне в основание большого пальца; боли не было, но показалась кровь.
— Желаю успешного перехода через Рубеж. У вас есть для этого все необходимое.
За моей спиной молчали, ожидая своей очереди, к'Рамоль и хмурый Хостик.
Повезло.
Обычному человеку, чтобы добраться до старичка с золотой иглой и получить визу для прохода через Рубеж, требуется полгода времени и немалые траты, и то нет никаких гарантий…
А нам, по прямому княжьему приказанию, проставили визу бесплатно и сразу.
Глядя на свою чуть припухшую ладонь, я подумал, что теперь-то стану ходить через Рубеж едва ли не каждую пятницу. Посмотрю на миры…
— Удачи, — сказал старичок.
Чумак Гринь, сын вдовы Киричихи
Той ночью на лагерь чумаков навалились разбойники — но врасплох не застали. Сильно поранили седоусого Брыля, огрели по голове Гринева однолетка Лушню и отступили, догадавшись, что легкой поживы не будет. Утро поднялось над черным кострищем, над составленными в круг возами, над привычными ко всему, хмурыми, черными от солнца людьми. Брыль стонал на возу, Лушня часто сглатывал и держался за разбитый лоб. Один разбойник лежал в туче мух, и с него уже стянули сапоги; другой, туго банный вожжами, безумно зыркал по сторонам и, в отличие от Гриня, знал уже, что с ним будет.
Дядька Пацюк, чьи плечи были шире воза, а руки свешивались почти до колен, слил остатки воды из кожаного мешка в казан из-под каши, и все чумаки по очереди — и Гринь! — в зловещем молчании сыпанули туда каждый по горсти серой соли. Пацюк помешивал палкой, разводя соль в теплой воде; потом взял жестяную воронку и вместе с тремя самыми крепкими мужиками пошел к связанному.
Лушня едва держался на ногах, но все равно пошел посмотреть. Гринь отвернулся — разбойнику вливали в глотку густой соляной раствор. Потом крепко связали по рукам и ногам и, разрезав штаны, пеньковой веревкой перетянули соленой воде выход.
Медленно зашагали волы. Заскрипели колеса, закачалась кадушка с дегтем; Гринь шагал, потрясенный, вылупив глаза, разинув рот, не слыша черных чумацких шуток.
Вставало солнце. Обещало связанному разбойнику долгую, долгую смерть.
Потом сломалась ось. Остановились волы, запререкались погонщик с дядькой Пацюком, кашевар Петро невозмутимо взялся готовить кулеш — пока разгружали потерпевший воз, да пока снимали колеса, да пока меняли ось, да бранили недобросовестного кузнеца…
Гринь все оглядывался. Ему даже казалось, что он слышит первые крики умирающего разбойника.
А стоянка затягивалась. Поставив ось, сели завтракать; на куске полотна рядом с хлебом, десятком луковиц и куском сала лежал длинный резницкий нож.
Ветер поменял направление — и Гринь явственно услышал вопль. На этот раз не померещилось, нет!
Когда кашевар обнаружил пропажу ножа — Гринь уже бежал, пригибаясь, хоронясь за стеной травы, возвращался к месту ночевки, добежал, остановился, чувствуя, как бухает сердце — и отдается в голове, в груди, в руках…
Разбойник перевел на него мутный, безумный взгляд. Над ним вились мухи; Гринь замер с разинутым ртом, судорожно стиснул рукоятку ножа — зачем только вернулся?!
Разбойник застонал и вытянул шею. Как ягненок перед резником, ягненок с подбритой шеей, покорно подставляющий себя под нож.
Темная лужа на вытоптанной траве. И мало воздуха, мало, хотя кругом целая степь.
Гринь бегом вернулся к своим. Усмирил дыхание, явился как ни в чем не бывало, будто по нужде отлучался; оказалось, впрочем, что не только дядька Пацюк — все прекрасно все видели и давно все поняли.
На тот раз ему удалось легко отделаться — ну, приспустили вожжами шкуру, ну, поучили законы уважать… А больше всех ярился кашевар Петро — за нож, который Гринь так и бросил в степи.
— Сыночек… Гринюшка… ох, горе горькое…
Он открыл глаза; материно пузо нависало над ним, ничего больше не было видно: ни лица заплаканного, ни натруженных рук, только пузо, где скрывалось чадушко, которое не по дням, а по часам растет.
— Пустите!
Вывернулся из-под ласк. Сел, поднялся, босиком побрел на двор — по нужде.
Снег таял под жесткими, потерявшими чувствительность ступнями. Утро? Вечер? Синеет небо, белеют столбы дыма над дымарями, чернеет одинокая ворона на плетне…