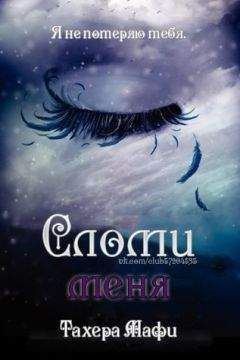Эх! Рассказывать, так без утайки: на самом донце души жалко тренькнула струнка. А может быть?.. Может, зря всё, может, лучше бы мне доить пегих коров, ходить с полными вёдрами берегом лесных озёр, у которых жил Соболек?.. Я вспомнила, как он метал нож в Злую Берёзу. Нет. Взял Белену, и хорошо.
Братья поведали — мужнюю, её сделалось не узнать. Поверишь, что умерла и вновь родилась иным человеком, послушным, ласковым, добрым… Не зря мать говорила, я, старшая, кругом виновата. А басен сколь про младших сестриц, не в очередь изведавших счастье…
Лишь поздно вечером, когда и у братьев, и у Яруна глаза уже смыкались сами собой, решилась я наконец спросить про Молчана.
— Да вот к тебе хотели свести, — ответил Мал. — Не дался, совсем задичал. Воет, в лес бегает. Сказывают, с волчицей слюбился.
Ярун потом говорил, на меня жаль было смотреть, так я взметалась. Пыталась дать братьям варежки или шапку, чтобы Молчан сумел меня разыскать. Еле отговорили. Тогда кинулась собирать какое-то угощение псу, но и с этим не вышло. Мне ли было не знать — ни у кого не возьмёт он еды, лишь у меня…
Красивые меха, привезённые братьями, по строгому счёту клали в кожаные мешки со швами внутри. Славомир сам затягивал каждый крепкой верёвочкой. Потом брал деревянные колобашки, просверленные насквозь, с соколиными знаменами князя, выжженными на боках. Продевал концы верёвок, ещё раз завязывал, втягивал узел вовнутрь и запирал деревянными пробками. Теперь всё, теперь мягкую рухлядь никто не тронет до Ладоги, до самых княжеских ключниц.
Мне было любопытно, я подходила смотреть. Славомир — не воевода, он не прогонит. Он даже дал подержать пустотелую колобашку и объяснил, почему никто не вынет мехов, не разрезав завязок или мешка.
— Можно и по-другому, — рассказывал он, улыбаясь над кучей пушистых, кисло пахнущих шкурок. — Другие люди льют воск и прикладывают перстни с рисунком. Наш обычай мудрей, ведь перстень можно подделать.
Я всё думала, от кого замыкали мешки, кто здесь мог позариться на собранное для князя, — в наших лесах взять песца из ловушки, разнаменовать бортное дерево было почти неслыханным делом… А Славомир пересчитывал искристых бобров и говорил не спеша, и посмеивался в густые усы, и даже я, тугодумная, в конце концов поняла: он был очень рад мне, стоявшей рядом, смотревшей ему в руки. Да. Надобно честно молвить, я струсила. Постоишь возле такого ещё разочек-другой, он и велит, чтобы я в мужских портах не ходила, прялку в руки брала вместо меча и кольчугу на тело белое чтобы не примеряла… для того я против всех ратилась в одиночку?
Заглянувший Ярун позвал чистить рыбу к обеду. Я выскочила во двор, как спаслась. Даже перевела дух. Славомир проводил меня взглядом, я почувствовала, но не оглянулась. Недоставало ещё мне нового страха. Присватается и воеводу сватом приведёт, что делать тогда? К Вадиму в Новый Град на лыжах бежать, как Блуд оттуда к нам прибежал? Больно дорого досталась мне воля, чтобы так запросто её отдавать.
Когда молодая волчица впервые берёт себе волка, из целого гона она оставляет не обязательно самого рослого, самого сильного и даже самого ярого. Оставляет того, о ком тихо шепнёт безошибочное чутьё: с ним, единственным, логово до самой смерти будет уютным и волчата родятся, что колобки. Где же бродил он, зеленоглазый мой одинец, какую добычу искал в сумеречном лесу, о чём плакался звёздам? С Молчаном сошёлся под ёлками, спрашивал обо мне? Или не спрашивал — сразу в глотки вцепились?.. Молчан был как я: в лес жить не шёл и собак чуждался, собаки боялись его, волки не принимали. А вот волчица переступила вражду, не погнала… Я вживе увидела подсмотренное разок на охоте. Серую невесту, лукаво припадавшую в снегу на передние ноги, чтобы вдруг шлёпнуть по носу лапой рослого жениха, запорошить ему смеющуюся морду и отскочить, взвиться выше кустов в весёлом, лёгком прыжке… Я была совсем близко, но волки не чуяли, а может, и чуяли, на них об эту пору дерево падай, ухом не поведут. Большуха дядькина шубу просила, и у обоих зверей мех был на заглядение, утонет ладонь, пока нащупаешь тело… я так и ушла со стрелою на тетиве, ушла навстречу попрёкам и укоризне. Я просто представила, как две шкуры тянулись бы друг к другу с распялок. А теперь думала — может, на моего волка охотник набрёл жестокосердней меня?..
Уехали братья, и я, как водится, первое время вздыхала: вчера только виделись… позавчера… вот уж семь дней назад… Потом накатили другие дела, другие заботы. Начали заглаживать в сердце и встречу с роднёй, и другие ямки, поглубже. Человек, как упругое дерево, выпрямляется, если, конечно, не согнут дальше предела. Понемногу я перестала сжиматься при виде вождя, он же, искренне молвить, меня что позабыл. А что ему меня вспоминать. Велета краснела и отводила глаза, встречаясь со мной. Теперь-то я знаю, она робела позвать меня обратно к себе, боялась — вдруг не пойду. Мне, дуре, вправду порой хотелось ей показать, не думай, мол, не скучно и без тебя, только вот кузовок бы забрать…
Стояли, быть может, последние злые морозы, когда нам, отрокам, было велено натаскать старой соломы и уложить перед крепостью в поле. Сказывала я о границе, пролёгшей когда-то между мирами умерших и живых? Нелегко путешествовать через неё туда и обратно, мало кому удаётся, разве что ненависти и любви. Ненависть убивает живых и поднимает в дорогу мёртвые кости, но любви подвластны гораздо большие силы, на то она и любовь. Мертвые не покидают любимых одних на земле. Если бы смерть увела меня от Того, кого я всегда жду, моя душа тоже не полетела бы поспешно в ирий, предпочла бы мерзнуть и мокнуть, но не отступилась, век шла бы след в след, советовала, хранила… и плакала от неслышного счастья, если бы он. раз в году нарочно теплил костёр, обогревал меня, жмущуюся за правым плечом…
Дома мы устраивали этот огонь вскоре после Ко-рочуна, но в урочный день мы с побратимом сидели в лесу, слушали суровые песни метели, и было нам не до костров. Окажись я на месте дедушкиной души, я бы не осерчала. Уж кто-кто, а дедушка знал, что я его помнила.
Костёр зажгли вечером, когда луна выплыла из-за леса и облила его тем зеленоватым сиянием, что снилось мне по ночам. Воевода Мстивой добыл живого огня и выпустил его в солому, став на колени, как перед погребальным костром. Пламя с шорохом взвилось выше голов. Мы все стояли без шапок, и воины шевелили губами, молча глядя в огонь. Им, сражавшимся, было кого поминать. Только тот истинный воин, кому есть о ком поминать, есть за кого мстить. Я закрыла глаза и сразу почувствовала, что у огня стояло гораздо больше людей, чем можно было увидеть. Из потёмок, из вьющихся искр, из самого огня возникали всё новые. Высокая, прекрасная обликом женщина подошла к воеводе, два маленьких мальчика выбежали следом за ней. Потом показались старуха со стариком, мать вождя и отец, не назвавший датчанам лесного убежища рода. Других, подходивших к Ведете, Хагену, Славомиру, я видела смутно, о них мне мало рассказывали. Я была по другую сторону пламени и, не открывая глаз, видела, как вздрагивали лица воинов, медные от жара. Никто из них давно уже не вздрагивал при виде вражьих мечей.
Дедушкина душа тёплой птахой припала к моему сердцу, белые перья шуршали, как падавшие угольки. Обнять бы её, удержать в ладонях, погладить… нельзя: слишком грубы и тяжелы руки живых. Я стояла не шевелясь, лишь губы шептали, поколение за поколением называя умерших, и умершие меня обступали. Живые без мёртвых голы и одиноки, мёртвым без живых пусто и холодно в небесном краю, в просторной гулкой земле…
Когда угасли все искры и не стало более ничего, кроме лунного света, мы побрели домой, по-прежнему молча, всё ещё чувствуя рядом с собой не торопившихся улетать. Даже язвительный Блуд опустил непокрытую голову, и темнота заливала его следы на снегу.
Я не знаю, как мы с Велетой оказались друг возле друга. Велета подняла глаза, я перехватила её взгляд… горем луковым были все наши обиды. Она подошла совсем близко, я взяла её руку без рукавички, укрыла в своей. Больше мы не расстанемся. Велета тоненько всхлипнула и прижалась боком, плечом, головой. Так мы с ней прошли через двор, а после по всходу.
Наши мёртвые были с нами всю ночь до рассвета. Мы поставили им угощение, и каждый положил ложку: мы, отроки, — свои деревянные, старшие воины — серебряные и точённые из рыбьей кости, что возят на торг северные корелы. Мёртвые съедят сладкую кашу и в благодарность расскажут судьбу: тот, чья земная жизнь близка к концу, найдёт свою ложку перевернувшейся. Понятное дело, ночью мы спали урывками, а утром немедля кинулись в гридницу. Наши с побратимом ложки как будто никто и не трогал; Ярун обнаружил в своей две присохшие крупинки и долго гадал, что бы это значило.
Ложка Блуда была накрыта горшком. Блуд посерел лицом, но не дрогнул и поднял горшок. Из-под него с писком кинулась мышь, ложка брякнула об пол. Блуд поднял её и усмехнулся: