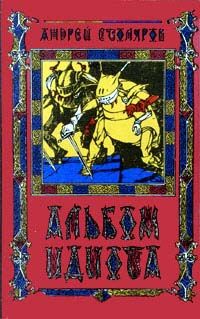— Как фамилия? — переспросил Игнациус, стараясь протиснуться мимо нее к дверям.
— Клопедон, — таинственно понижая голос, повторила Горгона. — Вот гальюнация, так гальюнация, я теперь заснуть не могу — вижу: стоит мужик в шароварах, сам голый, голова, как чугунный котел, перевесилась, и мне пальцем грозит: уу-у, старая!.. — Горгона обидчиво шмыгнула. — Уж, казалось бы, месяц живем, подружились, вон ты давеча мне кошачьей шерсти в кастрюлю настриг, так я ничего — выловила и обратно к вам…
— Хорошо, — сказал Игнациус. — Я завтра поговорю с ним, я его знаю, действительно — Клопедон, он у нас в институте вахтером работает. Вдумчивый серьезный товарищ. Не переживайте. Гор… Анастасия Никодимовна, лично к вам он больше заходить не будет.
Горгона слегка успокоилась и вытерла мягкий нос огромным платком.
— Я тебя уважаю, Санваныч, ты человек положительный, а краля твоя хвостом вертит. Только ты из дома, она — щелк, и нет ее. Какая-такая работа до полуночи? С шаромыжниками гулять — такая работа!.. Взял бы да отхлестал вожжами, она тебе кто? — жена невенчанная, то-то и оно, а ты размяк, дурень. Прибей и выгони, покажи характер! — Горгона энергично кивала. — Может, тебе водочки налить? — весь-от посинел, прямо малиновый…
— Я не пью, — сказал Игнациус.
— Потому и добрый.
Погремев чем-то в шкафчике и неразборчиво пошептав, она налила ему треть стакана. Водка была очень противная. Игнациус, морщась, выпил и пошел в свою комнату. Там было прибрано, проветрено и даже вымыт крашеный пол. На расправленной чистой клеенке белела записка от Ани: «Не ищи меня, больше сюда не вернусь». Аккуратные строчки на длинном клочке бумаги. Игнациус пожал плечами и скомкал ее. В общем-то ему было безразлично. В открытой форточке грохотала шальная капель. Хлюпало, ухало, чмокало и свистело. Мазнуло по лицу водяной прилипающей пылью. Комья снега подтаивали между окон. Он во весь рост повалился на скрипнувшую тахту. День заканчивался. Растекались минуты. Водка совсем не действовала на него. Нельзя любить женщину, которую уже любил когда-то. Когда-то очень давно, много лет назад. В пылких снах и юношеских мечтаниях. Вообще невозможно было любить. Потому что — бессмысленно, и потому что — напрасно. Потому что теряешь тогда — все, что есть. Потому что любовь пожирает — всю жизнь, без остатка. Отдаешь целый мир и ничего не получаешь взамен. А идущий за красочным миражом — погибает. Водка все-таки медленно действовала на него. Стало жарко. Дремотное сознание прояснилось. Игнациус дышал в узорчатую ткань тахты. Как в туманном волшебном зеркале, перед ним выплывало: диссертация, Жека, Анпилогов в ботве… вечно ноющий Пончик, метания, провал на защите… помертвевший бессильный Созоев, остекленелый Грун… Валентина в распахнутой шубе, чужое лицо матери… Он как будто перелистывал альбом своих давних потерь. Фотографии, серый картон. Альбом идиота. Страница за страницей проваливались в никуда. Дождевой будоражащей свежестью тянуло из форточки. Аня села вдруг на тахту рядом с ним — наклонившись и положив ладонь на затылок. Тем же запахом эликсира веяло от нее. Пальцы были холодные и чуть влажные.
— Ты не спишь? — спросила она. — Нет, не сплю, — после паузы ответил Игнациус. — К сожалению, я не могу уйти. Я как будто привязана к этому дому… — Очень жаль. — Игнациус замолчал. Аня вздрогнула и немного поежилась. — А на улице — сыро и все течет… — Просто — оттепель, — неохотно сказал Игнациус. — Просто оттепель? Я думаю, что уже — весна… — Ну — не надо, не надо! — сказал Игнациус. И рука, которая гладила его, осеклась. Аня выпрямилась и, кажется, стиснула зубы. — Ты, конечно, мне не поверишь, но я люблю тебя. — Сообщи об этом по радио, — сказал Игнациус. — Я люблю тебя, и поэтому погиб Персифаль… — Наступило молчание. А через секунду. — Ах, вот как?.. — Он не мог стать мне мужем, потому что я любила тебя. — Ну — не надо, не надо! — вторично сказал Игнациус. — Тебе очень плохо? — спросила она. — Нет, пожалуй, терпимо, — ответил Игнациус. — Все-таки, единственный, кого я жалею — это Персифаль. — И опять наступило молчание, точно обрезало. — Но ведь я ничего не могла поделать, — сказала она. — Ты нисколько не виновата, — сказал Игнациус. — Может быть, но если не любишь, то — всегда виноват. — Да, конечно, я — виноват, — согласился Игнациус. — Нет!.. Не думай!.. Я вовсе не о тебе!.. — Хорошо, — терпеливо сказал Игнациус, — пусть я не виноват, но я тебя не люблю. Не люблю, не люблю! И давай на этом закончим!.. Все! Закончим! Закончили! Теперь — уходи!.. — Он задвигал локтями и перевернулся на спину. Потолок был ободранный, в летаргической паутине годов. — Как ты думаешь, сколько тебе осталось? — спросила Аня. — Я не знаю… Немного… — В июне? — По-видимому, июнь… — Обещают, что июнь будет очень жаркий. — Ну уж это мне теперь все равно… — И потом, неизвестно еще, а вдруг ты ошибся?.. — Не волнуйся, я не ошибся, — раздраженно сказал он.
Сел рывком и в надтреснутом зеркале на стене увидел свое отражение. Постаревшее, серое, осунувшееся лицо. С утра протекли уже три месяца, но пока изменений не было. Только, кажется, немного побелели виски. Он придвинулся к зеркалу и повернулся в профиль. Да, действительно, чуть-чуть побелели виски. Да, действительно, виски чуть-чуть побелели.
— Я не ошибся, — вяло сказал он.
У него обнаружили геронтофагию, «пожирание старостью». При этой болезни резко ускоряются некоторые обменные процессы в организме, постепенно выпадают волосы, тускло обесцвечиваются глаза, ревматическая боль нежно покусывает суставы. Начинается преждевременное старение. Человек как бы скользит по возрасту, пробегая за один день несколько месяцев своей жизни. Субъективно это почти не ощущается. Полагают, что геронтофагия связана с распадом биологических часов. Или с нарушением психологического восприятия действительности. Как-то примерно так. Я не специалист. Болезнь эта чрезвычайно редкая и чрезвычайно загадочная. Причины возникновения ее непонятны. Никаких лекарств нет.
Игнациуса обследовали очень долго и очень тщательно. Ему предложили лечь в клинику и поставили на медицинский учет. Он, естественно, от всего отказался. Как и многие на исходе лет, он испытывал острую неприязнь к врачам. Недоверие. Смутную настороженность. Раз в неделю его посещал участковый терапевт. Но и только.
Он остался жить в своей прежней квартире, хотя Горгона писала слезные жалобы в горисполком, требуя выселения заразнобольного тунеядца. Геронтофагия не опасна для окружающих. Ему дали бюллетень до конца года, и у него образовалась масса свободного времени. Он не представлял, куда его тратить. Он вставал рано, потому что страдал бессонницей — день проходил в утомительном перемалывании длинных, как эпохи оледенения, светлых и пустых часов. Он физически чувствовал это время, текущее сквозь него. Будто поток проникающей радиации. Ночью он обычно лежал без сна, распахнув узелковые веки, и в зашторенной яркой темноте слушал безжалостный треск секунд. Он совсем ни о чем не думал. Думать было утомительно. Его никто не навещал, потому что он не хотел этого.