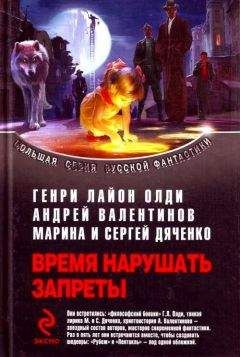Матня первым кинул камень — Гринь увернулся. Зато следующий камень метил в младенца — Гринь отбил его кулаком, и рука сразу же онемела.
Потом камень угодил ему между лопаток.
Потом — в плечо.
Потом одновременно в спину, в колено и в грудь. Потом в лоб — Гринь зашатался, но устоял. Кинжал был бесполезен — мужики держались широким кольцом. Гринь склонился над младенцем, прикрывая его собой…
И вдруг стало светло.
— Что здесь происходит?
Камни больше не летели. Гринь поднял голову.
— ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?
В свете новых, сильных факелов на толпу смотрели четверо. Первый восседал на огромной белой лошади, закованный в невиданную гибкую броню, в руках его был хлыст, а у пояса — сверкающий меч; двое его спутников отставали на полкорпуса, один в черном, заросший бородой до самых бровей, страшный, как в детском кошмарном сне, второй в зеленом, белолицый, с надменной усмешкой, и тоже с плетью в руках.
И женщина. Такими обычно представляют ведьм — чернявая, с глазами как уголья, да еще в мужской одежде.
Мужики побежали.
Они бежали молча, падая в темноте и наступая на упавших; дьяк убежал первым, и книжка с экзорцизмами так и осталась валяться в снегу. Поп спрятался в церкви и запер за собой дверь.
Гринь громко хлюпнул носом. Втянул в себя кровь.
Младенец заплакал. Сперва неуверенно, потом все громче.
Часть вторая
ДЕВИЦА И КОНСУЛ
Здесь магнолии не росли.
У него не было сада, не было дома с колоннами розового мрамора. Няни не было тоже. Маленькая хибарка на окраине Умани, вишневое дерево у входа, единственный лапсердак с заплатками на локтях, доставшийся ему от щедрого дяди Эли…
— …Ваш сын станет великим учителем, уважаемый ребе Иосиф! Может быть, даже наставным равом в самом Кракове! Хотел бы я, чтобы мои великовозрастные балбесы понимали Тору хоть вполовину так же, как и он. А ведь вашему сыну, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, только двенадцать!..
Ему действительно недавно исполнилось двенадцать, когда проклятый Зализняк ворвался в Умань.
Отец не верил — и отказался бежать. А потом стало поздно. Семья успела выбраться из северных ворот, но только для того, чтобы наткнуться на очередную гайдамацкую ватагу, — люди Зализняка спешили в гибнущий город.
— …Хлопцы! Глянь! Так то ж жиды! А ну, робы грязь!..
Отцу повезло — он упал сразу под ударами шабли. Повезло и матери — ее проткнули острой косой. И Лев Акаем, жених сестренки старшей, погиб без мучений — бросился на врагов и упал бездыханным.
Ему повезло меньше — ему, сестрам, братьям.
Лея, младшая, умерла быстро — уже под третьим или четвертым ублюдком, терзавшим ее юное тело. А Рахиль жила долго, и все кричала, кричала… кричала.
Пока одни убивали сестер, другие разжигали огонь. Дрова разгорались плохо, недавно прошел дождь…
— А ну, говорите, жидята, где ваш батька червонцы запрятал?!
Голые ноги — в костер.
Страшный дух горящей плоти.
И крик… Сначала умер Ицык, самый младший, затем — Шлема…
Наконец замолчала Рахиль — страшная, непохожая на себя. Кто-то взмахнул саблей, поднял ее голову, насадил на пику. На него взглянули широко раскрытые пустые глаза…
Ухмыляющиеся рожи подступили ближе, кто-то плюнул в лицо.
— А вот и мы, жиденок! Ну, может, ты чего скажешь, перед тем как сдохнешь?
Он знал, что не может отменить случившееся, — и знал, что оставить все как есть тоже не сумеет. Зачем он здесь, кто он такой, если не сумел защитить свой дом, свой народ, свою семью?.. Он ненавидел себя. Он стыдился себя, слабого; он пожелал, сам до конца не осознавая своего желания. Изо всех сил пожелал…
И шагнул в костер.
Лица гайдамаков менялись и плыли, полустертые горячим воздухом, но ему было все равно, потому что как раз в этот момент на голове его сухо вспыхнули волосы…
«Не в добрый час твое желание услышано, мальчик. Не в добрый час».
Ярина Загаржецка, сотникова дочка
Панночка! Панночка! Заступитесь!
Чужие руки прикоснулись к узде. Кровный серый конь не выдержал — прянул в сторону, возмущенно заржав. Всадница — девушка в серой, обитой дорогим черкасином кожушанке — качнулась в седле и слегка наморщила плоский утиный нос. Красные сапожки вжались в конские бока, удерживая скакуна на месте.
— Панночка!
— Гей, назад, шайтан! Кому говорить? Назад! Отойди от ханум-хозяйка!
Второй всадник, широкоплечий одноглазый татарин в синем жупане, взмахнул короткой плетью-камчой. Просители — трое посполитых в долгополых кожухах — отступили на шаг.
— Заступись, панночка! Девушка придержала коня, оглянулась. Вечерняя улица была пуста. За день снег успел слегка подтаять, подернуться грязноватым настом. В маленьких окошках неярко горели огни, возле высоких дубовых ворот скучал здоровяк-караульный, небрежно опираясь на пику.
— Погоди, Агмет!
Татарин недовольно заворчал, но послушно опустил руку с плетью. Те, что остановили всадницу посреди пустой улицы, поспешили вновь приблизиться, держа заранее снятые шапки в руках.
— Панночка Ярина! Заступитесь! Пан Лукьян нас и на крыльцо не пустил! Пропадаем, панночка!
Ярина Загаржецка раздраженно пожала плечами, бросила взгляд на запертые ворота:
— Откуда?
— Из Гонтова Яра! Из Гонтова Яра, панночка Ярина! — заспешили кожухи. — Вконец пропадаем! Пан писарь сотенный нас и слушать не стал! Заступитесь! Батька твой до нас добрый, и ты добрая!
Девушка невольно хмыкнула и покосилась на своего спутника. Татарин осклабился и произнес нечто среднее между «Хе!» и «Хы!». Видать, совсем уж плохи дела у кожухов, если они о доброте пана сотника заговорили!
— Батька уехал, или не знаете? — девушка наморщила свой плоский нос, вздохнула. — Пока его нет, пан писарь главный.
— Заступитесь, панночка Ярина! Пропадаем! Все село пропадает! Девушка дернула плечом и соскочила с коня. Татарин смерил недовольным взглядом наглых посполитых и нехотя последовал ее примеру.
— Жди здесь, Агмет!
Ярина кинула поводья своему спутнику и шагнула к воротам. Караульный, поспешив поклониться, распахнул калитку.
— Пан писарь у себя?
— Так, панна сотникова!
Девушка быстро прошла через двор. Взбежала на высокое крыльцо, стукнула каблуками, отряхивая снег с сапожков, и решительно отворила дверь. В лицо пахнуло теплым запахом жилья. Навстречу шагнул еще один реестровец, уже без пики; узнал, склонился в поклоне.
— К пану Лукьяну! Где он?
— В зале, панна Ярина.
— Не провожай! Дорогу знаю!
В прихожей тускло горели свечи — не сальные, восковые. Лукьян Еноха, писарь Валковской сотни, не мелочился. Новый дом поставил всего год назад, а уже и пристройку затеял, и амбар под тесовой крышей, и конюшню. Девушка вспомнила, как посмеивался отец, читая писарскую «слезницу», в которой тот просил отписать ему еще и мельницу «за ради бедности нашей кормления для». Посмеивался — но в мельнице не отказал. А теперь, когда пан Логин Загаржецкий, сотник валковский, со своими черкасами реестровыми где-то за Дунаем, пан писарь и вовсе стал кум королю и самому гетьману сват.