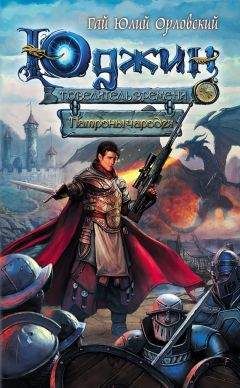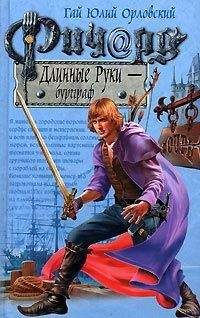— Хорошее место для засады, — сказал я и неспешно вытащил пистолет. — Как думаешь?
— Хорошее, — согласился он и так же неторопливо и картинно начал извлекать из ножен меч. — Чувствуешь, да?
— Просто трушу, — ответил я. — Я демократ, а для демократа и гуманиста трусить — признак высокого социального развития.
Кусты распахнулись, на дорогу разом высыпало четверо оборванных и страшных мужиков с перекошенными злобой мордами. И хотя знаю насчет приема устрашения, им не наши жизни нужны, а кошельки, вьюки и кони, но сердце в страхе замерло, а пистолет в моей руке дернулся в отдаче как раз в момент, когда вожак раскрыл рот для грозного: «Кошелек или жизнь!»
Фицрой поднял коня на дыбки, развернул на двух ногах и бросил на троих таких же грозных и отвратительных позади вожака. Меч его страшно сверкнул в воздухе. Ближайший разбойник не успел завалиться с разрубленной головой, как сверкающее лезвие начисто снесло голову его соседу.
Я стрелял и стрелял, а когда вслед за вожаком на дорогу рухнули и трое его соратников, торопливо обернулся к Фицрою. Тот галопом гнал коня за последним, что вовремя сообразил и ринулся бежать, но ума не хватило ринуться в заросли, а в панике понесся по дороге.
Где–то на десятом шаге над головой обезумевшего от ужаса дурака раздались конский храп и торжествующий голос всадника, а затем острая сталь с хрустом рассекла череп.
Фицрой наклонился с седла и вытер клинок о спину убитого. Когда разогнулся и бросил меч в ножны, лицо его сияло отвагой и довольством.
— Поровну!
— Чего?
— Ты троих, — пояснил он, — я троих. Меч не уступает магии!
— Даже превосходит, — подтвердил я. — Ты что там смотришь?
Он, наклонившись с седла, осмотрел сперва тех, которых убил, потом сраженных мною.
— Эх, оборванцы… Если у них что–то и есть, то далеко в лесу.
— Да ладно тебе, — сказал я. — Поехали.
— Люблю трофеи, — признался он. Подумал, добавил со вздохом: — Хотя, если бы с каждого брал хоть щепочку, за мной везли бы обозы строевого леса. А зачем он мне?
— Корабли строить, — пояснил я солидно. — Ладно, поехали!
Мы пустили коней рысью, я старался дышать ровно и говорить ровно, все еще немножко потряхивает. Неужели все, тот же Фицрой, в самом деле убивают спокойно или же просто делают вид, что им нипочем, а на самом деле их тоже трясет?
Фицрой после долгой паузы поинтересовался:
— Ты видел большие корабли?..
— Конечно, — ответил я и посмотрел на него в изумлении. — А ты?
Он покачал головой.
— Видел, конечно. Но, думаю, должны быть и больше. Все–таки эти плавают по рекам и озерам, а если в море?
Я пробормотал:
— Так ты и моря не видел?.. Ничего себе… Ладно, еще увидим. И корабли тоже. Очень большие! Трехмачтовые.
Он некоторое время ехал молча, смотрел вперед, лицо заострилось, а ветер красиво треплет волосы, наконец проговорил осевшим голосом:
— Ты видел больше меня… Я это почувствовал еще в каменоломне. Что–то было в тебе такое… А сейчас еще больше.
— Какое? — переспросил я. — Честно говоря, я был жутко перепуган.
Он усмехнулся.
— Еще бы. Ты точно не родился в селе возле таких мест.
— А где?
Вместо ответа он пришпорил коня, я старался не отставать. Копыта стучат громко, ветер ревет в ушах, он крикнул громче, перекрывая звонким голосом шум:
— Страшно и представить!..
— Ты чего?
— Да вот не могу вообразить!
Я промолчал, это, скорее, метафора, хотя, кто знает, вдруг у него тоже может быть чутье или предчувствие? Недаром же сразу так прилип ко мне.
Однако Фицрой долго не может быть ни серьезным, ни встревоженным, тут же начал рассказывать, часто похохатывая, разные истории о странствующих, подобно нам, а я слушал, слушал, потом пустил коня в сторону от дороги.
Он прервал рассказ, крикнул:
— Ты куда?
— Да так, — ответил я, — хочу посмотреть, нет ли здесь близких выходов нефти.
Он крикнул вдогонку:
— Чего–чего?
— Горючей смолы, — объяснил я. — Она мне может пригодиться в народном хозяйстве и для подъема тоталитарной экономики.
Он в недоумении пустил коня за моим, а я достиг пятачка, откуда тогда в небо вырвался багровый столб призрачного огня. Всего в десятке шагов от дороги, недалеко от трактира, в котором Крант и Калило, мои стражники, усердно готовились к разговору с Марлом, мол, пропадать, так хоть будет за что.
Трава, как трава, если бы везде одинаковая, другое дело, а то над тем местом, откуда выметнулся столб переполнившейся в земле магии, растет всякий бурьян… хотя, конечно, не всякий, в одном месте очень даже мелкий, каргалистый, совсем жалобный, зато дальше снова роскошный, победный.
Я покинул седло, присел, рассматривая бурьян. На пятачке земли, где долгие годы копилась магия, даже цвет иной, синевато–желтый, а везде зеленовато–красный, заметно издали.
Фийрой наклонился с седла, глаза горят интересом.
— И что там?
Я сорвал пару стебельков, посмотрел скептически.
— Да, это не то… Ошибся. А жаль… Стой, ты куда?
Конь, почуявший свободу, отбежал в сторону, где
высокие зеленые заросли, начал срывать сочные верхушки. Фицрой повернул свою лошадку, догнал моего лакомку, тот мотал головой и не давал ухватить повод, но Фицрой поймал, в красивом галопе привел ко мне и бросил повод.
— Держи!.. И не выпускай, здесь кони хитрые. А вот люди — нет.
— Спасибо, Фицрой, — сказал я и, поднявшись в седло, послал коня на дорогу. — Поехали, надо спешить.
Пока он ловил коня, я сорвал еще пару пучков и надежно спрятал на дне кармана. Есть мысля, либо самому поискать подобные места, то ли объявить, что для королевского чародея Рундельштотта нужен вот такой бурьянчик, именно сине–желтый, мелкий, словно больной, кто принесет — тому вознаграждение…
Мелкая, но настолько шумная речушка, словно вся из грохочущих водопадов, выбежала навстречу и попыталась перегородить дорогу. Я засмеялся ее детской хитрости: в самом глубоком месте нашим коням по брюхо, но за шумом даже плеска не слышно.
Мы проскочили ее на рысях, снова полосы темного леса, свет пробивается сверху резкий и выжигающий в траве тьму, но дальше снова чернота, будто там вечная ночь.
Потом длинная мирная прогалина, травы сочные, а узорные листья роскошных папоротников необыкновенно изысканны и вычурны.