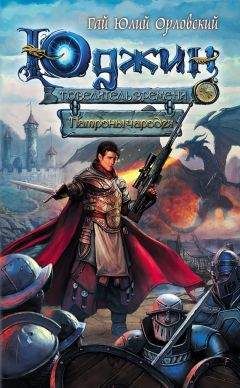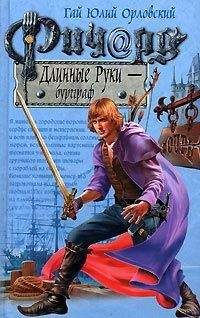Потом длинная мирная прогалина, травы сочные, а узорные листья роскошных папоротников необыкновенно изысканны и вычурны.
Я начал всматриваться в далекие горы, свернул коня в сторону от тропинки. Фицрой бездумно пустил свою лошадку рядом, только потом поинтересовался:
— Навестишь ту деревню?
— Да, — ответил я. — Креплю связи с населением. Люди должны видеть своего глерда. Никто не забыт, ничего не забыто, мы всем гадам припомним!
— Насчет не забыт, — сказал он, — это не важно, а вот насчет всем гадам… это хорошо! Я, когда вернусь в свои края, всем гадам не просто припомню… а даже очень припомню.
— У тебя есть цель, — сказал я с уважением, — благородная. И народу понятная.
В деревне меня вроде бы узнали, но все равно детвора разбежалась, а женщины укрылись в домах. Мужчины вышли навстречу, поспешно срывают шапки с голов и кланяются.
Я вошел в уже знакомый дом, по–хозяйски пнув ногой дверь. В дальней комнате сразу увидел распростертую на кровати Бдиллу, еще истощеннее, с запавшими глазами и мертвенно–бледным лицом.
За мной вошли ее муж и еще кто–то из его родни, остановились у порога. Я оглянулся, сказал повелительно:
— Служенье муз не терпит суеты. Подождите на улице. Лечение — это священнодействие, а не хи–хи. И даже не ха–ха.
Они нехотя вышли, я подошел ближе к постели.
— Привет, не спишь?
Бдилла медленно подняла веки, желтые и набрякшие. Глазные яблоки в полопавшихся кровавых жилках, взгляд не сразу отыскал меня, словно я перед нею порхаю в густом тумане, как легкомысленная бабочка, а не грозный глерд.
— Хозяин…
— Он самый, — сказал я. — Вот тебе лейгилст и еще какие–то корешки. Альвы передали. Говорят, они тебе даже важнее. Что с ними делать, знаешь? Варить, жарить, делать веник?
Ноздри ее заострившегося носа затрепетали, она глубоко вдохнула, закашлялась.
— Ну–ну, — сказал я. — Значит, это и есть он самый, лейгилст, уже вижу. Сама ты ни на что не годна, а руководить сможешь?
Она прошептала:
— Муж все сделает. Я подскажу. Но, хозяин…
Я выставил перед собой обе ладони.
— Никаких благодарностей. Мне это было нетрудно. А ты все–таки из моих как бы крестьян, хотя по статусу ты деревенская интеллигенция, за которой будущее… до некоторых нехороших реформ. Так что я и за тебя в ответе. Выздоравливай!.. Потом марш за работу.
Я повернулся и пошел к двери, но она проговорила слабым голосом:
— Погодите…
Я обернулся.
— Это мой долг!.. Не благодари.
Она дрожащей рукой протянула мне какой–то подозрительно увядший листок.
— А это… стоит сжевать вам, хозяин.
Я отшатнулся.
— Мне зачем?.. Я здоров, как заяц. Даже как два зайца.
— Человека это убьет, — прошептала она, — но если вы уцелели под светом трех лун и… еще живы, то это… укрепит. Чуть–чуть. Один листок. Два… нельзя, опасно. Три — смертельно…
С колебанием я взял листок, оглядел его. По идее, им невыгодно, чтобы умер их только что появившийся могучий защитник. С другой стороны, кто этих химер знает. Тем более в женском обличье.
Может быть, химере еще можно довериться, но если химера еще и женщина, это такая гремучая смесь…
— Знаешь ли, — сказал я, — как химера химере говорю, мне это как–то жевать не хочется. Не коза все–таки.
Рассказывай, зачем это, мы же свои!.. Не хочешь? Ладно, прожую. Глотать не надо?
— Лучше проглотить, — посоветовала она, — так лучше…
— Кому лучше, — спросил я с подозрением, — вам или мне?
Она прошептала жалобно:
— Глерд…
Я посмотрел на нее пытливо. От нее веет теплом, что значит — в самом деле чувствует благодарность, но все- таки не просто химера, а химера–женщина, а кто их знает, вдруг да грызанет.
— Ладно, — сказал я, — рискну.
Разжевав листок, я ощутил некое жжение, язык защипало, уже чувствую, какое это адское зелье, с великим трудом заставил себя побыстрее проглотить.
Она смотрела с сочувствием, меня согнуло, я ухватился обеими ладонями за живот, куда из гортани провалился тяжелый огненный шар. Перед глазами все поплыло, в ушах раздался усиливающийся звон, а тот, в свою очередь, начал разламывать изнутри череп.
Чьи–то руки поддержали меня за плечи, я опустился на лавку и некоторое время сидел, слыша только адский вой в ушах и грохот в голове.
Я поднял тяжелую голову. Я снова наедине с Бдиллой, муж уже выскочил за дверь. Бдилла с тревогой, что–то в ее лице изменилось, вроде бы зрю в ней гораздо больше, чем видел раньше. Сейчас вот даже все ресницы могу пересчитать… нет, и так могу сказать точно, сколько их там.
И вообще, грохот в черепе стихает, а в теле прибывает мощи. Я сжал и разжал кулаки, чувствуя, что сейчас, пожалуй, смог бы раздавить мелкий камешек в песок.
Она пошарила под подушкой, я смотрел настороженно, хотя вряд ли достанет оттуда второй пистолет, и точно угадал: вытащила нечто мелкое, протянула вздрагивающую руку ко мне и медленно разжала кулак.
Но еще раньше я увидел, как между пальцами пробивается свет, на ладони светится изнутри грецкий орех, такая же изрезанная пьяными бороздами поверхность, тот же размер.
— Это чё? — спросил я.
— Эта вещь, — сказала она, словно извиняясь, — бесполезна людям, но в ней сохранилась древняя магия, что делает химер сильнее и здоровее. И потому всегда за нею охотились…
— Давно?
Она ответила просто, будто я спросил, что она ела на завтрак:
— Не очень, но лет двести уже охотятся, как я знаю точно… но слышала, что она изготовлена тысячи лет тому. И уже тогда переходила из рук в руки.
Я удивился.
— И что, захапавший ее вот так и ходил по улицам, помахивая ею над головой?
Она грустно усмехнулась.
— Каждый ее хозяин прятал, но все–таки как–то выявлялось… Не сразу, но…
— Может быть, — предположил я, — узнавали по тому, как усиливалась какая–то из химер, что раньше была тихоней?.. Насколько я догадываюсь…
Она прошептала:
— Догадываетесь верно. Моего брата убили из–за этого… Он чувствовал, что кольцо вокруг него смыкается, но решил больше не убегать, а передал мне.
Я сказал саркастически:
— А ты мне, чтобы теперь охотились за мной?
— Вы сумеете защитить, — шепнула она. — Возьмите. Иначе…
— Что?
— Я не уберегу, — ответила она просто. — И не знаю, кому передать. Возьмите. Это ваш долг.