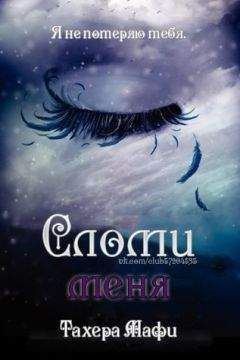Зубастые кмети смеялись над нами, глумливо просились в ученики, замышляли показывать ещё другие приёмы — на моей, понятно, спине. Бедный Блуд! Я и дома знала таких, что с трудом выкарабкивались из страшной болезни… но прежнее весёлое пламя в них никогда уже не воскресало. Я помнила троюродного брата Яруна. Мальчишку зло порвала рысь, раны кое-как зажили на молодом теле, но с тех пор он целыми днями молча сидел у огня или на солнышке… что-нибудь плёл из соломы или совсем ничего не делал, а когда звали есть, шёл медленно, по-стариковски… Гордый Блуд однажды даже сказал вождю:
— Поторопился ты посадить меня с воинами. Варяг, несший весло, остановился и внимательно посмотрел на его дрожавшие губы.
— А ты уверен, — спросил он неожиданно, — что это и есть самое главное, грести лучше других?
Он не замечал меня, словно меня там и не было. А что ему меня замечать. Побратим, озадаченный такими словами, впервые не смог тут же выдумать что-нибудь колкое и смешное в ответ и заметался, а я рассудила: самое главное, это… такое, про что невозможно сказать, зачем нужно. Ни для чего, само для себя, а и не обойдёшься.
— Зачем воину мужество, новогородец? — спросил вождь.
Блуд совсем растерялся. Я не привыкла видеть его растерянным. Действительно, все знают, что нужно. А вот почему? Но нельзя же сказать, мол, не знаю, зачем воину мужество. Засмеют, сраму не оберёшься. Блуд выговорил:
— Для… победы, для славы…
— А слава?
Вождь улыбался. Бедный парень раскрыл рот и закрыл. Потом он сознался мне: мигом припомнилось Посвящение и загадки, которые тогда загадывал воевода. Совсем беда, коли пришлось бы на этакую напороться… Варяг не стал его мучить, ответил сам:
— Чтобы женщина тебя, бестолкового, полюбила. И как-то так усмехнулся углом рта, что я сразу подумала: вот почему ещё идут за ним люди. Он и тут знал что-то такое, что мне откроется, может, только под старость.
Меня в море не брали.
Каждый вновь посвящённый уже привыкал к своему месту на корабле, и я, тугодумная, наконец поняла, что обо мне не просто забыли. В самом деле, воевода не забывал ничего. И никого. Если бы он вдруг сказал мне: готовься! поход боевой завтра! — я не спала бы ночь, думая о жестоких врагах, о собственной трусости, о тяжёлом весле и о том, надо ли так упорно лезть, куда меня не пускают… Но позволять, чтобы вновь обнесли из-за косы на затылке?.. До каких же пор буду брать с бою всё, что другим давалось в подарок?
Сперва я хотела идти со своей бедой к Славомиру. Опамятовалась. Вспомнила, как он темнел и ожесточался лицом, когда парни затевали со мной шуточную перебранку. Нет уж. Да и при чём тут Славомир. Я собралась с духом и пошла прямо к вождю.
До сих пор вождь ни разу не гневался на меня по-настоящему. Однажды я видела его ярость со стороны и знала, что не решусь больше восстать, как зимой или ныне, при Посвящении. Глупая щенячья отвага два раза меня выручала. Больше не выручит.
Я выбрала время, когда он расседлал серебряного Мараха и чистил его после скачки по берегу. Мне показалось, он был доволен конём. Глядишь, и ко мне вдруг окажет себя немного добрей.
Он посмотрел на меня, как обычно, без всякого выражения.
— Девка глупая… — сказал негромко. — Того ли тебе надобно?
Он видел меня насквозь и, конечно, был прав, под стрелами недосуг отказываться и плакать, проситься домой….
— Будешь ходить на моём корабле, — приговорил он наконец. — Дело найдёшь, но у весла чтобы я тебя не видал.
Я успела уже понять, что в его глазах соколиное знамя прибавило мне не много достоинства. Я почувствовала, что краснею… Я выговорила:
— Я умею грести…
Воевода молвил спокойно:
— Пока меня здесь ещё слушаются, грести ты не будешь. А не любо, так я никого силком не держу.
Мне потребовалось усилие, чтобы сказать не слишком поспешно:
— Любо, вождь…
— Дитятко, — улыбнулся мой наставник, когда я пришла к нему за советом. — А ведаешь ли, где Бренн добыл своё прозвище?..
Этого мы с Блудом не знали, и я наморщила лоб: в самом деле, я нарекла бы Мстивоя… Строгим. Может быть, ещё Гордым. Но Ломаным? Того ради, что жизнь нелёгкую видел?..
— Однажды, — поведал нам Хаген, — ему перебило ноги веслом в бою, когда сталкивались корабли.
Я хотела сказать, что не боюсь всё равно, но рот не открылся. В четырнадцать лет я сломала правую руку. Споткнулась, пришибла нежные косточки о бревно. Я помнила, как перепуганные братья тащили меня через двор, сама я не шла, подгибались чужие коленки, даже и говорить не могла, плакала только… Вождь ходил не хромая, но прозвищ зря не дают.
Хаген добавил задумчиво и печально:
— Они оба потом сожалели, что не погибли. И Бренн, и Вольгаст.
Вольгаст, это был другой птенец разорённой Неты-Гнезда, тот, что ныне сидел воеводою на озере Весь. Стало быть, и ему крепко досталось в памятной битве. Моя мать тяжело рожала Белену, в отчаянии сама звала к себе смерть. Я рассудила: если меня в бою не прикончат сразу, лишь искалечат, пусть кто-нибудь иной жалеет о смерти, не я. Подумаешь, рука или нога!.. Голова была б на плечах. Мой наставник разгладил седую бороду и сказал:
— Их всего-то тогда двое выжило… из тридцати трёх.
На другой день я впервые смотрела на берег с корабля… Раньше, владея лёгонькой лодочкой, я никогда не отваживалась высовываться далеко. Да и незачем было. Когда берег уже совсем отодвинулся и начал прятаться в редкой серенькой дымке, я раскрыла припасённый мешок и вытащила чёрного петуха.
Непокорённая птица тотчас метнула клювом мне в руку — я едва успела отдёрнуть. К жилистым лапам был привязан камень. Этого драчливого я выменяла на полное решето плещущих карасей. Всем хорош был горластый, но хозяева ловили его чуть ли не с радостью: не давал проходу малым ребятам, злого пса не пускал из конуры. Я разглядывала тугой малиновый гребень, роскошный переливчатый хвост и предвидела: ныне уже восплакали по нему, в самую крепость кинулись выручать… пусть опять выдирает наседкам перья из спин, взлетает на голову самому хозяину и хозяйке — утро не утро без хлопанья его крыл, без оглушительного гортанного крика! Кто встретит ясный рассвет, кто прогонит злобную нечисть, рыщущую в ночи?..
Я взяла петуха, подняла камень и пошла на нос корабля. Здесь качало заметно сильнее, чем на корме, палуба под ногами дыбилась и ныряла. Славомир баял мне, хмурое Нево рождало совсем особенную волну, не такую, как их Варяжское море. Тут, говорил, нужна особенная сноровка, иначе немудрено и пропасть. Он всё знал про море и корабли. Я с ужасом чувствовала, как вздымалось и опадало что-то в желудке. Я не чаяла скорей ступить снова на твердь и смутно тешилась только тем, что воевода, державший правило, впервые взял его в руки в тот год, когда я родилась.
Белая пена вспучивалась и разверзалась перед форштевнем, холодные брызги били в лицо шумным дождём… Глубоко подо мной, в зелёных хоромах, пировал в торжественной гриднице Морской Хозяин. Он видел корабль, знал на нём новую душу и ждал подношения. Я как следует размахнулась и кинула петуха в море, как можно дальше за борт. Могучие, в голубой окалине крылья тотчас развернулись и ударили с такой яростной силой, что я поневоле перепугалась — взлетит!.. Нет, не взлетел. Камень косо упал под гребень волны, скользнул в глубину. Широкие крылья ударили ещё раз, уже по воде… и пропал огненный гребешок, исчез пышный выгнутый хвост. Я долго смотрела на беспокойные хляби, где и кругов уже нельзя было различить, и представляла, как мой петух уходил всё дальше в пучину, паря над мглистыми долами и озираясь, как подплывали к нему любопытные рыбы и отбегали, страшась сердитого клюва… как, наконец, он спустился на самое дно, возмутив шёлковый ил. Станет похаживать по двору, поклёвывать червяков и водяную траву… веселить Морского Хозяина звонкой утренней песней!
Славомир — говорил нам, молодшим: есть люди, которым любой шторм нипочём. Он сам был из таких. Мальчишкой дивился, когда другие метали съеденное за борт, — ему, весёлому, при любой качке только давай хлебца с жирной жареной рыбой, вмиг уберёт, попросит ещё. Есть иные бедняги, по двадцать лет моря не покидают, и все двадцать лет море их бьёт. Оттого людям кажется иногда, будто Морской Хозяин если невзлюбит, то навсегда. На самом деле не так. Наш воевода лежмя лежал в своём первом походе. Привык потом… Славомир про то баял нам на ушко. Чтобы не раскисали, когда станет невмоготу.
Ребята гребли, откидываясь на скамьях. Я смотрела, жестоко страдая от зависти и дурноты: вот бы мне хоть один черёд у весла!.. Опытный Славомир меня упереживал — от качки нет другого спасения, только делом заняться. Делом, любо сказать!.. Ой, зря я тогда не пошла к нему, подумаешь, за руку взял бы, спросил, скоро ли вместе поедем рыбу ловить… Может, принял бы к себе на корабль да и сжалился, велел ребятам подвинуться… Мстивой не миловал никого, а меня и подавно. Небось, только ждал, чтобы я распустила слюни и сопли, испачкала скоблёную палубу, запросилась на бережок…