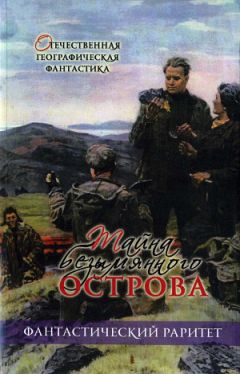— А ну признавайся, чего взял?! — надвигающейся грозой пророкотал его голос.
— Самое дорогое, — настойчиво повторил я, с твердостью смотря в его глаза. — По крайней мере, для меня. А чем ты дорожишь превыше всего, я не знаю. Хотя, понял уже.
Он насторожился и подобрался, словно желал наброситься на меня с кулаками. Я метнул порывистый взгляд на кинжал — благо ума хватит не выхватывать его. Не то, чего доброго, порежется…
— Я тебе сказал идти? — напомнил седельщик.
— Так я и пошел, — вежливо парировал я. — Но ты зачем-то выпрыгнул и не даешь мне уйти. Сам себе противоречишь, почтенный. Ты сначала сам определись со своими желаниями…
— Но ты забрал самое ценное! — гневно воскликнул он, на всякий случай, высматривая в толпе ближайшего стража порядка. Благо, их легко узнать по отблескам широкополых железных шляп, увенчанных высокими гребнями. Видимо, гребни для того и нужны.
— Правильно, — мотнул я пепельной головой, тоже глянув поверх голов. — Забрал.
— Но… вроде все на месте — развел он руками. — Но ты точно что-то взял! Ведь сам говоришь…
— А разве вор станет уличать себя в воровстве? — наивно моргая, переспросил я.
Некоторое время он стоял, как вкопанный. Затем нехотя выдавил:
— Нет.
— Так чего ж ты увидал во мне вора? — наигранно негодовал я.
— Но… ладно, — сдался он. — Но что же ценного ты уносишь с собой? Мне, право, интересно. Только не говори, что для этого нужно бесцельно бродить по миру.
Последнее высказывание он отметил настойчивым раздражением.
— Нет, бродить нигде не надо, — снисходительно успокоил я торговца. Смерил его взглядом, точно решал, стоит ли говорить. И решил. — Речь идет о мудрости. О знаниях и опыте. Знания — мудрость из источников; опыт — мудрость из твоей жизни. Они и слагаются в единую мудрость. Хотя есть много еще чего, но об этом можно говорить бесконечно. Однако основа сего богатства едина. И она такова. Ее-то я и взял. А точнее — пополнил.
Он выдержал недолгую паузу и вдруг засмеялся, хлопнув меня по плечу.
— А ты молодец, бродяга, — искренне нахваливал он меня. Глаза его ощутимо потеплели, желания смягчились и благодатным потоком устремились наружу. Сердце стало наполняться легкой волнующей дрожью. — Таких сообразительных еще не встречал. Бывает, подходят попрошайки, бывает — разглагольствуют. Но чтоб так… Я даже медяка для тебя не пожалею.
— Спасибо, — учтиво поклонился я, — но мне без надобности.
— Как? — удивленно потупился он. Поток желаний снова замер и оледенел.
Я пожал худыми плечами.
— Да вот так.
— Тогда… серебреный, — с гордостью выдал он, ломая застывший лед изумления. — Тебе ведь ни разу не давали серебро?
— Не давали, — согласно выдохнул я.
— Вот видишь… — еще больше таял лед.
— Но лишь потому, что не просил, — горько разочаровал я мастера.
И обдал его холодом нового удивления. Он поскреб подбородок, хитро прищурился, посмотрел с долей сомнения и вдруг решился.
— А, ладно! Твоя взяла! Ты умело поднял себе цену до небес. Как торговец, я уважаю это и даю тебе… даю… Золотой!!!
Я на миг оцепенел. Никто никогда не подаст нищему золотой. Особенно такой человек, как этот седельщик. Особенно здесь, в стольном городе. Это равносильно королю, который отдал бы свое королевство. Но передо мной стоял простой мастеровой, хотя для него то была плата королевская. Он привык ценить свой труд и знает цену тем деньгам, которые зарабатывает, пусть и в избытке. Такие не склонны расшвыриваться даже медяками.
— Золотой? — не веря, переспросил я, наигранно округляя глаза, боясь лишить его слащавой радости. Норовя лестью согреть его желания, и дать ему шанс проявить милосердие. Ведь оно искреннее и сердечное. И я льстил ему.
— Угу, — мотнул он головой с глубокими залысинами. И выудил откуда-то из-под камзола полновесный золотой гульден. — Его, надеюсь, ты возьмешь?
Тяжелая потертая монета сверкнула в ярких лучах чеканной орлиной головой в короне. На ней заискрились многочисленные царапины — видимо не раз на зуб пробовали. Что ж, понятно, ведь доверие на рынке — путь к краху. Я равнодушно опустил взгляд. От монеты пахло воспоминаниями. Пахло тысячами рук, в которых она побывала. Но еще резче пахло желаниями, которые она воплотила. Среди сложного букета запахов, я даже распознал очень знакомый и самый стойкий — запах крови. Интересно.
Седельщик стоял, вытянув длинную руку в благодарственном жесте. На его мозолистой ладони мерцал желтый кругляк с королевским знаком. Он ждал с вожделением и затаенным торжеством. Я, в свою очередь, смотрел на него. И ведь не обманывает. Он искренне желал дать золотой. И тем самым доказать то, что я простой нищий бродяга, который искусно и мастерски набил себе цену. И добился желаемого. Да вот только ошибся он — я не желаю милостыни, пусть даже такой дорогой и искренней.
Я отступил на шаг и вскинул руки.
— Нет, почтенный мастер-седельщик, и даже золотой я не возьму.
Торжественно-насмешливая улыбка медленно сползла с его тонких губ. Он виновато опустил руку, сжал золотой, и с новым изумлением уставился на меня. Но тут же изумление сменилось подозрением. Повеяло могильным холодом, пробирающим до костей.
— Всего своего добра я тебе не отдам! — предупредительно отрезал он. Глаза впивались судорожно и хватко. Но то не беда, если ты готов к этой хватке.
Я укоризненно покривился и покачал головой.
— Зачем ты вообще пытаешься меня обидеть, седельщик. Это невозможно. И бессмысленно. Неужели ты до сих пор не понял? Я не играю в торговлю и не желаю от тебя ничего, кроме мудрости? А ее я уже получил сполна.
Казалось, он и вовсе потерял дар речи. Я молчал в ответ. Так мы безмолвствовали некоторое время. На нас косились прохожие зеваки, сборщики податей, стражники, соседние продавцы. Даже пегий бесхвостый пес остановился рядом, недоуменно принюхался. Его засаленная грязная шкура лоснилась и пахла рыбьей требухой. Он выжидал подачки. Но никого не тронул его жалкий ущербный вид. Его или не замечали, или надеялись на милость иных торговцев. Потому, не почуяв желаемых запахов, пес канул в толпу. Там, где его поджидала лакомая добыча. От него не пахло разочарованием. Напротив — пахло радостью поиска. Он опустил нос к серым булыжникам и растворился среди сотен мелькавших ног, точно в бескрайнем лесу.
Я проводил его взглядом, поднял голову. Глянул вдоль улочки, образованной двумя рядами прилавков, полосатых пологов, дощатых кровель. Везде стояли продавцы, везде лежал и висел товар. Везде толпились люди. По улочке неспешно тянулся поток шляп, беретов, чепчиков, косынок, капюшонов, изредка — шлемов. Но чаще просто непокрытых голов. Он напоминал равнинную реку — спокойную и предсказуемую, несущую жизнь и благодать. Прилавки походили на запруды и заводи, где течение приостанавливалось, завихрялось, замирало. А взблеск золота и серебра казался бликами рыбьей чешуи в яркий день. Но, как на любой реке, блеск тот мелькал нечасто. Да, у поверхности всегда играет мелкая рыбешка, однако крупные рыбины дремлют в мутной глубине. Правда, я прекрасно видел сквозь любую илистую толщу. Толстосумов всегда выдают глаза — осторожные, внимательные, жадные. Бедняков, кстати, тоже — беспечные, обреченные, голодные. Но я их различал даже с закрытыми глазами. Ведь они остро пахли желаниями.