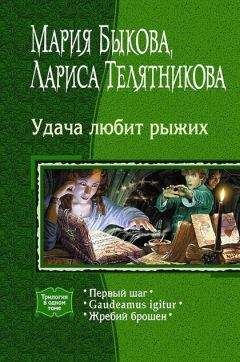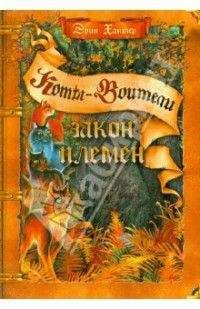— Ну а зеленые глаза — вообще признак фэйри… Дурак он, что ли? Видно, дурак… — припечатала она соотечественника. — Не понял, кого в дом впустил?
— Ну почему сразу дурак? — Мне стало обидно за эльфа. — Может, просто цвета не различает?
Эльфийка покосилась на меня с большим сомнением.
— Нет, — наконец сказала она. — Дальтоников среди нас не бывает. А вот слепые встречаются. Может, он был слепой?
— Так он же книжку читал!
— Разные книжки бывают…
Я покивала, адептка же тем временем села на место, чуть порозовев от сдержанных аплодисментов. В чем смысл сего рассказа, я так и не поняла. Лучше уж Изабелла, право слово, — там хотя бы социальная реклама о вреде алкоголизма…
Где-то через час я дождалась часа «икс» — выступила Полин, со стихами, перевязанными кокетливой розовой ленточкой. Выслушав все, я сделала два фундаментальных вывода. Во-первых, девица врала как сивый мерин, убеждая меня в необходимости моего присутствия. Чем-чем, а вот стеснительностью она не страдала: читая стихи, она успевала одновременно играть голосом и ленточкой, улыбаться жюри и строить глазки симпатичному поэту из первого ряда. Ну а во-вторых… оттого что вчера я не стала этого слушать, культурные потери были невелики. В отличие от многих, Полин умела выдерживать рифму и ритм — но дальше этого дело не шло, и получившихся кадавриков меньше всего хотелось называть стихотворениями.
Выступал пресловутый симпатичный, тоже со стихами. Стихи были без ленточки, но лично я бы перевязала, только не шелковой, а кольчужной. Ибо стихи были исторические: главный герой там был фьординг, впрочем называвший себя практически как угодно: то лыкоморским витязем, то более патриотичным берсерком, то совершенно непонятным мне «ульфхеднаром». Версия «берсерк» мне понравилась больше: фьординг определенно покуривал какую-то траву, потому как, то взывал к Одину за помощью (а даже я знала, что помощь — это по другому адресу), то предлагал врагам убедиться, чего он стоит (еще бы предложил выстроиться в рядочек, чтобы всех проткнуть копьем за раз). Попав же наконец в Вальхаллу и осуществив мечту всей своей фьордингской жизни, странный воин терзался воспоминаниями об утраченной навеки отчизне. На такую вопиющую нелогичность способен только коренной матерый лыкоморец, так что проблема с «витязем» отпала сама собой.
Добравшись до строчки о том, что «волны седые, как скальды, поют // Великого моря баллады», адепт патетически возвысил голос. Я задумалась. Вроде же скальды баллад не поют, баллады — это к менестрелям? Скальды — это висы, драпы, саги, в конце-то концов… Хотя, с другой стороны, быть может, имелось в виду, что седина волн соответствовала таковой у скальдов? Прям даже и не знаю…
Надо будет после спросить.
Но и это было еще не все! Прямо после знакомца Полин выступал уже знакомец мой, тот самый, с пылким взглядом из-под прямоугольных очков. Вид у него был такой вдохновенный, что я немедленно преисполнилась надежды услышать хотя бы одного адекватного поэта. Точнее, человека, хотя бы относительно подходящего под это название.
— Я прочитаю отрывок из первой части своей поэмы, — объявил знакомец, победно глядя в зал поверх очков.
Зал восторженно замер. Эльфийка настороженно уставилась на поэта поверх платочка.
Знакомец начал читать.
Главным героем поэмы был борайкос.[1] Из одежды на нем имелись: чалма, описанная с большим смаком, кривая сабля и верблюд. Последний, кстати, тоже претендовал на гордое звание главного героя. Все прочее было обойдено молчанием. Борайкос ехал по пустыне, начинало смеркаться, становилось холодно — еще бы, верблюд-то ведь не все прикрывает.
Последнюю фразу пробормотала уже я, не сумев сдержаться.
Эльфийка душераздирающе застонала.
Усталый, замерзший и, надо думать, изрядно поцарапанный (шерсть у верблюдов, если кто не знает, жесткая) борайкос всей душой стремился на ночлег. Наконец, после девяти строф терзаний, вдали он заметил огонек костра. Обрадованный верблюд поскакал на свет, издавая при этом счастливый рев.
Впрочем, был вариант, что счастливый рев издавал борайкос.
Огонек был не блуждающий: подъехав, борайкос и верблюд обнаружили возле такового монаха. Монах был одет в хитон; я загрузилась, пытаясь вспомнить, какая конфессия требовала от служителей культа столь странной одежды. Эльфийка, похоже, думала о том же самом.
— Святой был монах, — пробормотала я, ни к кому конкретно не обращаясь. — В пустыне, босиком, в одном хитоне… он, видно, еще и летать умел… как та кошка…
— Или передвигался прыжками, — согласилась эльфийка.
— Или выходил из шатра только в ночное время…
— Извините, а можно потише? — вежливо попросил нас какой-то пучковато-бородатый мальчик, сидевший впереди нас. Не иначе в родне у него были гномы… но если и были, то только в очень и очень дальней.
— Можно, можно, — закивали мы.
Мальчик еще раз подозрительно зыркнул в нашу сторону, но все-таки отвернулся, видимо удовлетворившись этим обещанием.
Действие развивалось дальше. Сердобольный монах, пожалев соотечественника (еще бы!), предложил ему разделить скромный ужин: зерна, лепешки и воду. Подумав, он заботливо прибавил, чтобы борайкос поторопился, а не то еда остынет и сделается малосъедобной.
— Интересно знать, что именно остынет? — прошептала эльфийка.
Я пожала плечами:
— Зерна. Они были кофейные.
Верблюд, которому поесть не предложили, был счастлив и так: наверное, благодарил свои верблюжьи небеса за прекращение психической атаки. Борайкос же с монахом, который и не такое видал, вкушали еду; по ходу ужина выяснилось, что эти двое приходятся друг другу родными братьями, а монаха, оказывается, звали Саулом. В принципе я и без того была уверена, что они родственники — у обоих были странные пристрастия в одежде.
Путник мирно вкушал со вновь обретенным родственником еду, когда снаружи вдруг послышался жуткий рык. Я опрометчиво приписала его верблюду; но нет, секундой позже автор оговорил, что верблюд издавал отчаянное ржание.
Мы с эльфийкой уткнулись кто в платочек, а кто в ладонь.
Как оказалось, на верблюда напал лев. Героическое животное отчаянно защищало свою жизнь — это, видно, был боевой верблюд, привыкший сражаться и за хозяина, и за себя. Нестандартному, так сказать, борайкосу — нестандартного верблюда. Ржание, наверное, было призвано окончательно смутить невезучего хищника и посеять в его сердце некоторое сомнение: а оно тебе надо, связываться вот с этим непонятным? Когда же из шатра выскочил верблюдов хозяин, в чалме и с саблей наперевес, несчастный лев окончательно потерял разум. Я в принципе отлично его понимала: мало того что верблюды ржут, так еще и борайкосы бегают практически в чем мать родила. С боем лев кое-как прорвался на волю, при этом поранив борайкосу плечо.