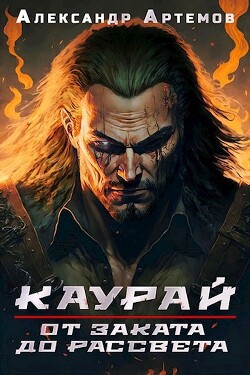— Это еще кто такой?! — басистым голосом пророкотал священник. В увешанной коврами горнице его неудовольствие прозвучало особенно громко и пробудило третью фигуру, которая располагалась в ногах у покойницы, прижав седой чуб к недвижимым стопам.
Лицо грузного старика, высушенное и изодранное скорбью, еще хранило необузданный огонь в глубоко посаженных ярко-голубых глазах. Сжавшиеся в нитку губы и не думали разомкнуться и поприветствовать гостей. Лишь правая щека, заросшая грубой щетиной, слегка дернулась — помеченная страшным шрамом, совсем свежим и еще кровоточащим.
Повисло молчание, вполне естественное в сложившейся ситуации, где каждый из лиц, находящихся в коконе свернувшейся тьмы, готовился вступить в игру, либо уйти в тень, согласно уготованной ему роли. Нравилось ему это или нет.
Пан воевода выпрямился на стуле и оглядел Каурая с головы до пят немигающим ледяным взором, которым можно было дробить камни. Этот взгляд Каурай знал слишком хорошо. Так обычно глядели безумцы, утопшие в бездне отчаяния и решившиеся нанять одноглазого на работу. Иной исход обещал слишком высокую цену, которую ни один не соглашался платить.
Значит, не ошиблась Хель. Как в воду глядела.
Священник тоже заметил спокойную решимость воеводы, которым он пометил визит незнакомца, и ужаснулся:
— Кто этот нечистый?! — наставил он палец Каураю прямо в лоб. — Зачем он здесь? Неужели ты опять, Серго?..
— Я сам решу, зачем он здесь, — отозвался воевода голосом, ничем не уступающим басу попа, но более глубоким, привыкшим к беспрекословному подчинению и не прощающему обид. — И я буду говорить с ним. Если ты так боишься его, Кондрат, покинь нас. Не доводи до греха.
— Это опричник! — шипел дрожащим голосом поп и все держал вскинутый палец, словно хотел проткнуть им одноглазого. — Слуга Сеншеса! Шпион Крустника! Такие как он…
— Я знаю, чем знамениты такие как он, — прервал его речь воевода. — Видал парочку, когда воевал. И ведомо мне, на что они способны. Для того и позвал. Покинь нас, отче.
— Ты сошел с ума! Я простил тебе ту рыжую тварь, но этот?! Подумай о…
Но под сердитым взглядом воеводы поп внезапно поник, зыркнул на одноглазого и торопливым шагом бросился вон из горницы. Хлопнула дверь, они остались втроем.
— Возможно… — пробормотал воевода, склонил было отяжелевшую голову к груди, но вновь поднял усталые глаза. — Ты тот опричник, который прибыл ко мне в Валашье вчера на закате?
— Я, пан, — склонил голову одноглазый, не прерывая зрительного контакта. — Можешь называть меня Каурай.
— Твое имя мне без надобности, — проговорил воевода. — Мне лишь важно тот ли ты человек, которому моя почившая дочь завещала исполнить ее последнюю волю.
— Последнюю волю, пан? — переспросил одноглазый, на мгновение усомнившись, правильно ли он понял воеводу.
Но тот кивнул.
— Именно, — еле заметно качнулась его голова. — Моя дочь… Божена, накануне кончины исповедовалась отцу Кондрату, испуганную персону которого ты только что имел честь наблюдать, и заявила, что хотела бы во спасение своей грешной души видеть подле себя человека, который придет в острог в последнюю ночь на закате. “Одноглазый черт”, как она выразилась. “Вы узнаете его, он «одноглазый черт» и ездит повсюду с метлой”, так она сказала, — при этих словах воевода хохотнул, пройдясь пятерней по седым усам. — И вправду, глаз у тебя действительно один, если повязку ты носишь не шутки ради. Только метлы с собой нет, но да ладно. Неприлично это как-то — приходить в гости со своей метлой. Скажи мне, пан опричник, откуда моя дочь могла знать таких как ты?
— Не ведаю, пан воевода, — еще ниже склонил голову Каурай, не мигая и упрямо не отводя глаз. — В ваших краях я раньше не бывал, спроси любого здесь.
— Так может, о твоих подвигах она наслышана? — не отступал воевода. — Моя девонька всегда была излишне любопытна. Не по годам, я бы сказал, любила влезать во всякие взрослые дела. Раньше я радовался, что растет подле меня такая смышленая пташка, но потом смутился, когда она начала совать свой носик в какую угодно книжку, кроме Писания, а его если и открывала, то насмешки ради. И горазда была водить дружбу с разными сомнительными личностями, коих приходилось мне гнать со двора собаками, и не раз. Уж не свела ли вас где кривая дорожка? Ты погоди отнекиваться, пан — подумай хорошенько. Я ведь все равно узнаю. Есть много способов добиться правды. И далеко не все из них безболезненные.
— Я родился в Брундрии, пан воевода.
— Брундрии, шутишь? — удивился Кречет.
— Если бы.
— Слыхал я, Брундрия полностью заросла мор-травой, — покачал головой Кречет. — Там бродят призраки, и никто не живет уже очень давно.
— Нет, кое-кто там еще живет, — задумчиво почесал нос одноглазый. — Хотя насчет мор-травы ты прав — ее там вдоволь. Все детство я провел в зарослях мор-травы. С тех пор мне пришлось покататься по разным сторонам света, но я еще помню, какова она на вкус. Иногда служба доводила меня даже до империи Дагудай. Но ни разу судьба не заносила меня на Пограничье, чтобы знакомиться со здешними панночками.
— Поверю на слово, — хмыкнул воевода. — Впрочем, и неважно это — случайно ли моя дочь призвала тебя перед смертью, или же сам Сеншес вложил ей в уста этого “одноглазого черта с метлой”. В любом случае, ты исполнишь ее волю. А я щедро заплачу тебе за работу. Отказа я не приму.
— О какой работе идет речь?
— Выстоять пред ее гробом службу в течение трех ночных бдений. От заката до рассвета, как и сказано в Писании. Таково и есть желание моей дочери. Начиная с этой минуты.
— Несложная задача. Но не лучше ли обратится к обычному дьячку, нежели к опричнику?
— И я так подумал, и в иной ситуации я бы не то, что не позвал тебя в сей поздний час из-за такой ерунды, а приказал бы выволочь на дорогу и травить собаками, пока душа не выпрыгнет. Но отец Кондрат наотрез отказался даже открывать книгу подле ее гроба, если ее внесут в церковь. Но и это не причина обращаться к такому как ты, ибо с упертым Кондратом я слажу, не словом — так кнутом. Слыхал ли ты о том, что случилось с моей дочерью?
— Слыхал, но боюсь оскорбить твои уши глупыми слухами, которыми полнится округа.
— Не знаю, о каких слухах ты ведешь разговор, но поговаривают, что над моей дочерью покуражился сам Баюн. Чудовище, которое уже третий год терроризирует Пограничье и не дает людям спокойно спать по ночам. Такие разговоры ты слышал?
— Именно.
— Так вот, пан опричник. Я не глупая трескучая старуха, которой кровь из носу нужно посудачить обо всем на завалинке. Я знаю, на что способны человеческие руки, уж поверь. Знаю, как виртуозно хороший пыточных дел мастер может поработать с истязаемым, чтобы он оставался в сознании и не умирал, пока этого не захочет палач. Ничего подобного не могло произойти с Боженой. Ее увечья это… не плоды человеческих рук, я знаю это наверно. Это когти Сеншеса, демона…
— Кондрат боится демона, который изувечил ее?
— Этот трус боится самой Божены. Он верит в то, что она будучи ведьмой сама поплатилась за свой распутный образ жизни.
— А ты, пан? Ты веришь в то, что она в самом деле была ведьмой?
После этих слов встала неловкая тишина.
— В иной ситуации за такое я приказал бы высечь тебя до щенячьего писка. Но ежели бы речь шла о простой девочке, у которой в мыслях лишь побыстрее выскочить замуж и нарожать старику кучу внуков. Но моя дочь, Божена, была другой, всегда отличалась от прочих. В худшую сторону. И эта сторона всегда беспокоила меня и не давала мне спать по ночам. Слухи, одноглазый, пересуды. Ими полнятся уста каждого на хуторах, кто только открывает рот на завалинке. А слухи о моей дочери ходили самые гнусные. И я вынужден признаться, что не каждый из них был ложью, как бы мне того не хотелось… Мои казачки и впрямь часто видели ее в компании падших женщин. На капищах, кладбищах, в ногах рожающих женщин, умирающих стариков, больных детей. Сначала я не верил тому, что мне рассказывали танцах вокруг костров, в которых она с радостью принимала участие, и приказывал сечь каждого, кто только подумает нашептать мне нечто подобное, но время шло, а таких разговоров становилось слишком много. Сама же Божена жила слишком разгульной жизнью, почти не появляясь в церкви. Даже убегала из дому, чтобы вернуться вся перемазанная застарелой кровью, в земле и в странных рисунках, покрывающих ее тело…