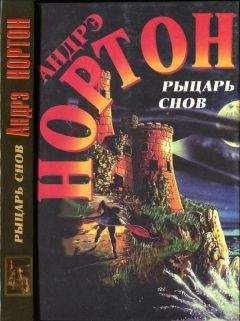Пали на землю снега, затрещали морозы. Непривычно такое меднокожим. Раньше они откочёвывали в тёплые земли, там стужу лютую пережидали, и покрова снежного некоторые и не видели вовсе. А тут – холод постоянный, Озеро замёрзло. Охотники в своих вигвамах и длинном типи сидят, нос высунуть бояться, а запасов то мало. Приели быстро. А голод – он ведь не тётка. Хочешь, не хочешь – желудок пустой быстро заставит делом заняться. Закутались воины в шкуры, вышли на охоту. А зверя то и нет! То ли сами его летом благодатным распугали, то ли славы постарались. Но не найти среди деревьев голых ни оленя, ни лань, ни даже зайца дикого! Скво снег руками голыми разгребают, добывают горсточки ягод мороженых из под снега. Лишь бы детей голодных накормить, которые смотрят тоскливо из под шкур. Решили рыбу пойти ловить – куда там. Ушла она из под берегов далеко-далеко. Да и что ей сейчас там делать, когда сковал мороз панцирем толстым воду, оставив лишь далеко на середине полыньи чистой воды… Та к ним не доберёшься – проламывается лёд под смельчаками, решившими рискнуть, а ещё – стоят там славяне страшные, бьют стрелами издали, убивая всех без жалости… Жесток голод сам по себе. А если ещё и в зиму суровую… Начали умирать меднокожие. Первыми – дети. Им меньше всего еды доставалось, ибо суров закон племён: не всегда потомство спасают в первую очередь. Поскольку дети родиться ещё смогут. Но только от кого? И потому – кусок последний воину, защитнику, и скво, которая детей выносить сможет. Мерли дети, как мухи. И старики со старухами тоже. Тем вообще ни кусочка скудной еды не давали. Бесполезны потому что стали для племён… Но поскольку вид умирающих на дух воинский действовал слишком угнетающе, а просьбы о еде ранили их стойкость – порешили вожди изгнать умирающих прочь из стойбищ. Пусть идут в другом месте умирают. Но не мозолят глаза тем, кто должен выжить, своим видом, своими стонами и просьбами… Вывели на лёд Озера, погнали прочь страшное кочевьё. Те еле идут, оставляя на своём пути мёртвые тела. Плачут, рыдают, да тщетно. Жестоки сердца остающихся. Не дрогнут. Не позволят остаться. Ибо каждый, кому разрешат, значит смерть одному из тех, кому предписано род продолжить, да племя восстановить… Идут люди. Спотыкаются, да вдруг закружила метель, закурчавила, скрыла из виду остающихся уходящих… И никто из четырёх племён, оставшихся на берегу, ибо собрали всех слабых сразу отовсюду, не увидел, как поднялась вдали фигура в белом меху на лыжах длинных, вскинула руки к небу, вознося молитву к Перуну и Маниту, и откликнулись Боги на просьбу человека… Вздохнули воины четырёх племён с облегчением – избавились они от лишних ртов. Прогнали голодные взоры соплеменников в другое место. Теперь можно зимовать спокойно. Много места в тёплых длинных домах освободилось, теперь и расходиться ни к чему. Все в одном стойбище уместятся. А кому места в длинном доме не хватит – в вигваме проживут до тепла. Довольны вожди четырёх племён. Ой, как довольны…
…Брячислав толкнул дверь старой дружинной землянки, и сразу заткнул нос от тяжёлого запаха. Но глаз различил страшную картину – сотни истощённых до крайнего предела тел, мужских и женских, лежащих на лежанках и разостланных на полу шкурах. Возле умирающих хлопотали люди. Поили их молоком, совали во рты жёваный хлеб, вливали по ложке похлёбку в беззубые рты. Словно из-под земли перед князем вырос жрец, и старший из братьев отвёл глаза в сторону – Путята был словно придавлен неимоверной ношей. Будто груз совести, самый страшный груз, который может быть только у человека, лёг на его широкие плечи. Но он знал, на что пошло племя славов. И согласился с нелёгким решением. Хотя, конечно, что сильные просто изгонят слабых на смерть, не ожидал никто… Хорошо, что именно жрец был в дозоре, следил за стойбищем, отгоняя дурную дичь, решившую заглянуть из любопытства, что делают в этом месте голокожие, носящие чужие шкуры. И именно служитель Богов увидел страшное деяние воинов и скво, изгоняющих прочь детей и стариков. И трупы умерших позади смертной процессии… Он едва смог дождаться, пока уходящие не отойдут хотя бы на версту от лагеря, а потом взмолился к Богам с просьбой сниспослать метель, скрыть то, что придут сейчас воины славянские, спасут несчастных… Из под самого носа оставшихся в стойбище вытаскивали лежащих на льду людей. Поражались их худобе, рваным одеждам. Те не сопротивлялись. Покорно ждали смерти. Тащили обессилевших прочь от зимовья к временному лагерю. Там поили горячим отваром из мяса, грузили на сани, везли в Славгород, где относили снова в верные старые землянки, в которых первую зиму жили, вновь пригодившиеся. Выхаживали каждую душу, старались изо всех сил, с ног сбивались. Супруги князей наравне со всеми скорбную работу делали. Но умерли многие. Слишком поздно помощь пришла… Из тысячи изгнанных едва три сотни выживут. Остальные…
- Опять грех на душу берём… Отстоит ли нас Перун на Вышнем Суде, княже?
Ничего не ответил князь, лишь челюсти крепче сжал…
Но ошибся жрец, даже странно. Почитай, все выжили! Лишь совсем дряхлые старики померли. А детишки, и те, что помладше умерших были, оклемались! Явил чудо Маниту! Не захотел к себе безвинные души брать. А братьям князьям вновь забота – куда определить рты новые? К чему пристроить? Насчёт еды не беспокоятся – земля родит на диво, дичь, да и домашний скот на столе не переводятся. Ну, стали потихоньку распределять: детей, поначалу, в школу. Пускай речь славянскую изучают. Грамоту. Лодырничать не дают. Хоть жестоко это по отношению к тем, кто только после голода лютого выжил – порцию урезают. Быстро отроки и девицы сообразили, отчего так делают, со всем тщанием на учёбу накинулись. Стариков и старух тоже к делу пристроили – те шерсть турову прядут, нитки крутят, ткани ткут. И не тяжело, по силам, и польза великая. А те и рады. И не столько тому, что живы остались, сколько тому, что теперь полезные они люди стали. Не считают их славяне нахлебниками. Наоборот, ценят их труд. С почтением относятся. И жильё дали ничуть ни хуже, чем сами живут. Даже с уважением к обычаям четырёх племён – в длинных домах. Только не из веток и коры, а из стволов древесных цельных. Живут пленники, и вроде как не пленники. Присмотр, конечно, есть. Чего там отрицать. Да только такой. Ненавязчивый. К праздникам славянским уже и совсем в себя пришли. Дети вместе с ровесниками из славов веселились, лепили болванов снеговых, на санях с горок ледяных катались. Ну, так дети же. На них чего серчать? И так сколь грехов на душу взяли, истребив полностью сенека…
Растёт град. Рождаются в семьях детишки. Прибавляется население. Трудятся мастера, корабли строя. Неслыханно то дело, чтобы в зиму лодьи делать. Но небывалое ранее всегда когда-нибудь случается. Машут топорами мастера, молотками деревянными, конопатками швы между досок забивают, радуется душа – для себя строят! Не на князей стараются, не на жадных жрецов. Не бессмысленный труд рабский. Вольный труд свободного человека! По первому месяцу лета пойдут корабли в Аркону в последний раз, привезут новых людей. И сколько – лишь от них, мастеров-корабелов зависит. И стараются вольные труженики, ибо первое, что в Законах Славов записано – не может один слав другого в рабстве держать… Летит время, словно птица в небе, близятся дни тёплые, скоро таять начнут снега, наступит самое голодное время… Сторожа вокруг лагеря четырёх племён страшные вести приносят – те совсем духом пали. Уже и на охоту не ходят. Не пытаются что либо добыть. Ослабели вовсе. А если так пойдёт далее – до греха людоедства дойдут. Лежат вповалку в своих домах, только дымки слабые от дыхания над крышами вьются. И с каждым днём всё слабее…