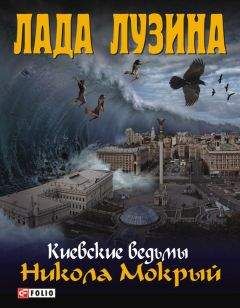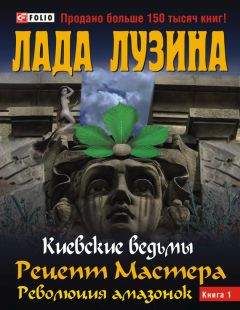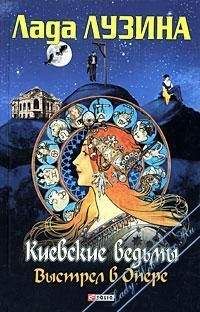Дух Города повернулся к старшей из Трех.
— Семь минут и тридцать восемь секунд назад вы думали, что крушение вашего бизнеса — ад. Но уверяю вас, завтра, когда вы поймете, что значит ад, вы станете думать иначе.
— Ненавижу!!!!! — заорала Катерина. — Ненавижу всех!
* * *
Киевицкий был прав: Катя была слишком умна, чтоб не понять — она загнана в угол. Но ее поражение было слишком похоже на смерть, чтобы признать его.
— Вы заманили меня… — Катины руки сорвали плюшевую штору с карниза. — Великая власть! Свобода. — Руки рубили воздух, искали, что еще можно сорвать, сокрушить. — И что в результате? Я должна подставить правую щеку? Я должна проглотить это? Смириться. Стать нищей. Иначе смерть! — Руки сорвали с полки ряд книг и швырнули их на пол.
— Мама! — Рыжая Пуфик вонзила в Дашу десять когтей и ввинтила трусливую морду «маме» под мышку.
Книги, альбомы, картины, настенные тарелки летели в них.
— 13-ть запретов породили не мы, — постно сказал Катин Демон. — Марина! Она провозгласила Равновесие меж Землею и Небом, она сделала бесконечную власть Киевиц вашим рабством. До нее вы были свободны и ни один Суд не мог призвать вас к расплате. Но нынче свобода стала…
— Нет! — крикнула Маша.
Вытянув руки, Катя бежала к камину, намереваясь свергнуть со стены фреску с Киевицей Мариной.
Восседавшая на каминной полке белая кошка вздыбила коромыслом спину.
— Прочь!
Белладонна, шипя, подняла когтистую лапу. Катерина хотела смахнуть кошку рукой.
Но та прыгнула раньше.
— А-а-а-а! Черт! Черт! Черт! Черт! — взвыла Катя.
В Башне молниеносно материализовались четыре Черта.
Вместе с ними объявился резкий запах зоопарка. Даша сморщила нос.
Четверо замарашек (черный, бурый, рыжеватый и серый) сбились в пушистую кучу, прижались друг к дружке, испуганно косясь на сбор верховных властей.
— З-звали, Хоз-зяева? — робко пискнул Черт бурый, поджимая хвост и обращая жалобный нос-пятачок в сторону дерущихся.
Обезумев, Катя пыталась выдрать белую кошку из черных волос — и обе они, и Киевица, вызвавшая их на подмогу, и Хранительница Башни были неприкасаемы.
— Че делать-то, а? — круглые глазки бурого Черта кричали непониманием. — Мы ж не могем-с.
Маша, могущая, но застопорившаяся из-за нежданного появленья чертей, уже спешила на помощь.
Но Белладонна сама оставила Катину голову и, вернувшись на подшефный камин, уселась там с видом исполненного долга.
Дображанская плакала, опустив лоб на ладонь:
— Черт… (К четырем чертям мгновенно прибавился пятый — черного цвета.) Черт (Шестой черт был пятнистым.) Черт, черт… (Седьмой и восьмой — снова черными. Видимо, среди чертей доминировала эта расцветка.) Что же мне делать? Я не могу… Мне легче покончить с собой. Мне тридцать пять лет, я не могу начинать все сначала. — Взгляд Кати встретился со скопищем рогато-хвостатых. — Забыла, — безжизненно сказала она, опускаясь в кресло. — Забыла. Нельзя говорить «черт»… (Черт девятый был голубоватым и мелким.) …он появится.
— Так Катя — чертовка? — оживилась Чуб. — А я? Черт… Черт!
— Что прикажете, моя Ясная Пани? — Выявившийся самым бойким девятый и голубоватый, полностью проигнорировав Дашин призыв, выскочил на середину окружности комнаты и сделал пред Катей мастерский книксен. — Да будет прославлено в веках ваше имя! Да сбудется пророчество, когда в Город третий раз придут Трое, они примирят два непримиримых числа…
— Брысь! — Катя бездумно вытерла кровь с исцарапанного лба.
Черт исчез.
Катерина таки была настоящей чертовкой!
— «Брысь» ко всем относится. Техническая накладка. — Василиса Андреевна спешно сделала оставшимся восьми жест рукой «валите отсюда».
На мордах испаряющихся рогачей отразилось великое облегчение.
— Вы не оставили мне выхода, — мрачно сказала Катя. — Кроме смерти. — Она смотрела на свою красную от крови ладонь.
Даша пучеглазо смотрела на Катин лоб, воочию демонстрировавший им величие истины «Киевицу невозможно убить!» Раны на Катином челе затянулись, царапины исчезли — тело Киевиц восстанавливалось само, как Земля. И уничтожить его мог только Киев…
Или она сама.
— Покончив с собой, вы окажете Акнир большую услугу. — Демон сделал шаг к Дображанской.
Катерина не шутила.
Катя не была Дашей! Как бы не любила Чуб песнопенья и славу, еще больше она любила себя. Катя не была Машей. Как бы не любила Ковалева Владимирский, Врубеля, папу, еще больше она любила мечту о неком великом и высшем жизненном смысле.
Катя любила власть.
Больше себя! Гордыня властвовать и повелевать и была ее смыслом.
Однако одна Катина власть лежала в руинах, а вторая обернулась унизительной ролью послушной, покорно принимающей удары судьбы, проглатывающей боль…
Но Катя относилась к породе людей, которых невозможно согнуть, — их можно только сломать.
Катю сломали.
— Мне нет дела до Акнир, — сказала она.
— Екатерина Михайловна, вы, одна вы имеете все шансы доказать право быть Киевицей! — затрепетала Вася. — Вам достаточно отправиться в Прошлое, встретиться с вашей прапрабабкой и получить от нее фактическое…
— Мне нет до этого дела. Я не хочу быть Киевицей. Я не хочу быть. Я ничего не хочу, — честно сказала Дображанская.
— Кто эта женщина? — звонко перебила их Маша.
Как ни странно, Ковалева не бросилась к Кате, не прониклась законченным чертом пророчеством. Она сидела на корточках перед устроенным Дображанской книжным развалом, держа в руках низвергнутый с полки фотоальбом.
— Кто эта дама? На фотографии. Ее никто не знает? — встревоженно спросила она.
Помедлив, Василиса Андреевна приблизилась к ученице.
Машин палец утыкался в коричневатое дореволюционное фото молодой раскрасавицы с белой муфтой в руках. Муфту украшала бахрома меховых помпонов. К воротнику белой шубки был приколот букет искусственных ландышей.
— Киевица Персефона, — признала даму Премудрая. — Та самая — обвиненная в 1895 году и бросившая Город.
— Обвиненная 1 января 1895 года! — возгласила датолюбивая студентка-историчка. — Бог мой, я ее видела! За день до того. 31 декабря! В Царском саду. На той самой аллее, где Анна нашла Лиру… Боже, все сходится! Все потрясающе сходится!
Маша обвела потрясенным взором присутствующих и объявила:
— «Змея-Катерина и две сестры ее, соберите всех своих змеев и змей» — всех змей — значит всех Киевиц! «Соберите их и спросите, которая из них подшутила, свой яд упустила…» Она! Ты говорил, — разведчица Прошлого озаренно взглянула на Демона, — революция произошла потому, что Город остался без хранительницы. Но это неправда. Это она — Персефона! Она подбросила Ахматовой Лиру! А на следующий день сестра призвала Суд на нее. Она виновна! Пятьдесят миллионов погибли из-за нее! Но для этого, — задумалась Маша, — Персефона должна была знать формулу Бога. Без нее не рассчитать двадцатитрехлетний путь от Лиры до Ленина. А формулу изобрела Кылына.