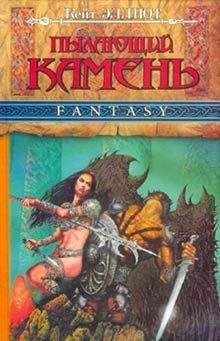Алан сел на кровать. В каком-то внезапном порыве он потянулся и откинул волосы со лба спящего Отца. Годы брали свое, к тому же ветры и солнце иссушили кожу, оставив тонкие морщины вокруг глаз, но все равно лицо графа еще не утратило моложавости. Лавастин не часто хмурился или смеялся, и эмоции не оставили заметного следа на его лице.
Он не отличался мощным телосложением, как принц Санглант, и сильным его делали не рост и не мускулы, а воля и ум. Граф был практичным и осмотрительным человеком, отнюдь не склонным проявлять те чувства, которые послужили именами для его собак. Он просто выполнял ежедневную работу по поддержанию порядка в поместье и во всем графстве.
Алан улыбнулся, отгоняя муху. Его отец еще не стар. Конечно, юным его тоже не назовешь, но, в любом случае, он младше короля. И возможно, скоро он станет дедом.
Алан покраснел. Только люди, принадлежащие церкви, могут оставаться непорочными, как ангелы. Только так они могут стать вместилищем божественной благодати.
Господь вдохнул в человека желание, чтобы люди плодились и размножались. Разве Господь и Владычица не освятили союз между Аланом и Таллией? Разве Земля и вся Вселенная не были творением Господним? Разве грешно восхищаться этим миром? Грешно думать о Таллии и о том, как они воссоединятся на брачном ложе? Или мечтать о том, что Лавастин станет дедом? Для Лавастина внук станет самым желанным подарком, и Алан собирался доставить ему эту радость.
Горе заскулил, Алан потрепал пса по уху, и тот тотчас пристроил голову ему на колени. Алан вдруг живо вспомнил Агнесс — младшую дочку тетушки Бел: когда она была маленькой, то зимними вечерами частенько взбиралась к нему на колени и уютно устраивалась там, слушая разные истории. Интересно, как поживает тетушка Бел? И вспоминает ли его Генрих? Ненавидит ли его по-прежнему?
Даже сейчас воспоминания о последней встрече с приемным отцом болью отдались в сердце Алана. Генрих обвинил его в том, что ради корысти Алан стал лгать и притворяться, забыл обо всем, что сделали для него Генрих и Бел. Его слова ранили Алана сильнее, чем кинжалы!
Ужас зарычал во сне. Ярость гавкнула и положила лапы на подоконник.
В кустах что-то зашуршало.
Алан вздрогнул и подбежал к окну. Горе неторопливо пошел следом.
Остальные собаки спокойно лежали на полу. Ужас и Тоска продолжали мирно посапывать. Лавастин пошевелился, что-то пробормотал во сне и повернулся на бок.
За окном промелькнули крылья — спугнутый Аланом дрозд укоризненно посмотрел на него с ветки, клюнул ягоду и улетел. Алан никак не мог успокоиться.
Что же это за проклятие, о котором говорил Пятый Сын? Алан по-прежнему видел его в снах и знал, что происходит с эйка. Жрец племени эйка пел об этом проклятии: «Пусть оно падет на того, чья рука правит мечом, пронзившим его сердце».
Конечно, Кровавое Сердце поразила стрела Лиат, но армию, в рядах которой шла сама Лиат, вел Лавастин.
Алан встал на колени перед открытым окном и склонил голову. Ужас храпел на полу, а Лавастин — на кровати. Тоска и Страх улеглись у дверей и закрыли глаза, возле Алана остались лишь Ярость и Горе.
За окном ветер играл листвой, откуда-то слышался женский смех. Издалека доносился стук молота, который бил по наковальне в унисон с сердцем Алана.
В конце концов это всего лишь языческое проклятие. Господь сильнее проклятий эйка, и если Алан будет молиться, Бог защитит отца.
5
Алан проснулся, его разбудил дрозд, который вернулся склевать еще одну ягоду. Шея ныла, Алан понял, что заснул там же, где и молился, положив голову и руки на подоконник.
Он встал и потянулся, а Ярость направилась к дверям и замерла там в ожидании. Лавастин еще спал, и Алану не хотелось его будить.
Он откинул щеколду, бесшумно открыл дверь — служанки настоятельницы вовремя смазывали петли — и вышел в коридор в сопровождении Ярости и Горя. Вернувшись в свои покои, Алан обнаружил, что Таллия стоит на коленях возле кровати, положив голову на одеяло, и спит, — как и он сам, она заснула во время молитвы.
Алан осторожно уложил ее на кровать и прикрыл одеялом. Она не проснулась, лишь пробормотала что-то во сне. Алан лег рядом и, подперев голову рукой, стал смотреть на нее. Таллия была бледна как полотно, лишь губы слегка розовели. Этих губ касалась простая деревянная чаша — почему же он не заслуживает даже этого? Конечно, он могпотребовать у нее взаимности, ведь супруги дают друг другу клятвы, дабы их брак принес плоды.
Он наклонился к жене и почувствовал ее дыхание у себя на щеке. Наверняка Таллия тоже испытывает к нему влечение, она, как и любое живое существо, не из камня. В ней должен пылать огонь ответного чувства, нужно просто уговорить ее.
Алан прильнул к ее губам. Таллия шевельнулась во сне, и ее бедра прижались к нему. Прикосновение, ощущение тепла ее тела через одежду, запах ее нежной кожи ослепили его. Он ничего не видел, только чувствовал, что не в силах больше сдерживаться — желание сжигало его.
Он прижался к ней, погладил ее подбородок и наклонился, чтобы поцеловать ее снова, вновь ощутить это прикосновение, податливый изгиб ее губ.
Она открыла глаза и вскрикнула от ужаса.
Алан отшатнулся.
— Всю ночь я молилась, чтобы Господь дал мне знак, — прошептала она. — Я молилась, чтобы Господь через меня открыл настоятельнице тайну искупления. И Он ответил мне. Неужели ты хочешь осквернить божественное прикосновение?
Она разжала ладони — из ран сочилась кровь.
Алан отступил. Он сбежал из комнаты вместе с Горем и Яростью, чувствуя глубокий стыд. Продираясь сквозь заросли кустарника, он мчался куда глаза глядят, не рассуждая и не останавливаясь, чтобы отдышаться.
Он больше не мог этого выносить! Как можно вытерпеть такое? Он ли виноват в том, что происходит между ними, или Таллия — какая разница! Алан не мог думать о ней, даже о ранах на ее руках, не чувствуя при этом желания обладать ею. Ему никогда не избавиться от этого. Но разве то, что происходит между мужчиной и женщиной, не благословлено Богом?
Алан пришел в себя, но желание его не оставило. Это было невыносимо. Он вернется и заставит ее подчиниться. Видит Бог, это уничтожит все доверие, которое она испытывает к нему, но…
Он заплакал от отчаяния.
На опушке леса он увидел заросли сорных колючек.
Алан снял с себя рубашку и стал продираться сквозь крапиву и чертополох. Горе и Ярость лаяли, но не решились последовать за ним. Он упал и катался по земле до тех пор, пока все его тело не превратилось в одну кровоточащую рану. Только после этого он выполз из зарослей и зарыдал. Горе и Ярость прижались к нему и принялись вылизывать его раны, боль они унять не могли. Но теперь он мог думать о Таллии спокойно.