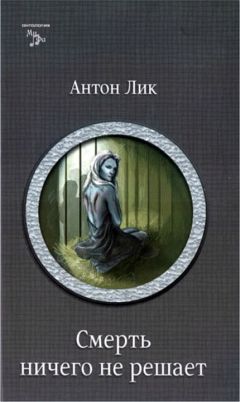— Теперь главное — никогда, ни в коем случае не приближайся к склан сзади, и тем более не касайся крыльев.
— Вот так? — Ырхыз толкнул, переворачивая Элью на живот, и накрыл ладонями шрамы. — Или так?
Провел пальцем по спине, слегка надавливая на позвонки.
— Никак! В этом действии все — и оскорбление, и покушение, и преступление. Только к родичу поворачиваются спиной, или тому, кому доверяют. Или презирают. Не боятся удара.
— А этот, который с твоей дуэли, он тебя презирал? Или доверял?
Элья долго молчала.
— Отвечай.
— Не знаю.
Недоверчивый смешок, ласковое прикосновение к затылку и приказ:
— Дальше.
— Для дуэлей используют не меч — браан. Не только для дуэлей. Он не мембрану — сосуды рвет и разрядом лупит так, что крыло немеет. Если крупные жилы задеты, и сразу не сшить, то шрамы остаются, серые сгустки, вроде заплат. И в бою они не выжигаются. Мертвые зоны.
— Это все? — Горячее дыхание между лопаток, волосы, скользнувшие по спине, запах ромашки, мелиссы и — ну да, ей следовало узнать прежде — дурмана.
— Нет, не все.
— Слушаю.
— Мне нельзя быть там. Суд, приговор, изгнание. Нельзя и думать, чтобы приблизиться. Икке-нутт, не приносящие пользы, не имеют права обращаться к тем, кто выше дьен. Я же еще ниже, чем икке, я никто. Будет скандал. Будет смерть. Это не обычай, как у вас. Это закон, а закон нельзя нарушать, и если я это сделаю, то… фейхты будут в своем праве.
— Успокойся, Элы. Все их права остались под Вед-Хаальд. Ты очищенная, ты принадлежишь мне, и я решаю, что с тобой делать. Повернись. Посмотри на меня.
Спокоен и самоуверен. Нормален. Почти.
— Лучше расскажи мне…
Они беседовали до ночи. И весь следующий день.
А на рассвете третьего посольство выдвинулось в путь.
Алеющая полоса тракта терялась в предрассветной мути. Лиловыми простынями лежали сугробы, по которым беззвучно скользили ломкие тени. Лошади, люди, собаки, увязавшиеся следом, двигались в прежнем, подзабытом уже ритме. Вот только Ырхыз был непривычно молчалив.
Недавняя оттепель закончилась, и мороз, казалось, крепчал с каждым часом. Порывистый ветер проникал под мех, склеивая длинными заиндевевшими иглами, тянул тепло, порождая немоту в пальцах.
Хмурый Таваш Гыр не приближался к той части каравана, где двигался тегин. Лишь изредка проезжал мимо с сыновьями и пестрой свитой, но обращался только через кунгаев-посыльных и исключительно к Морхаю.
Конские копыта с хрустом разламывали лед, трещали сосны, роняя иглицу. Изредка то слева, то справа жалобно тявкала лисица. Ночь приносила иные звуки: волчий вой, стоны сов и чей-то сдавленный, но меж тем явно различимый плач.
И голоса. Случайные обрывки разговоров, принесенные ветром, услышанные лишь потому, что говорившие были громогласны и слишком обижены, чтобы проявлять осторожность.
…а он эту тварь в мой дом… чьими табунами каганат славится? На чьих вахтагах трон стоит? Кто полторы тысячи на Вед-Хаальд привел? Кто, Всевидящего ради, слухам не верил, а он…
…нет, вот скажи, я брата потерял, сынов двоих в поле положил, а еще одного и камы вытянуть не сумели. Хлыст, сказали. Эман, сказали. Без надежды, значит, сказали, а он эту тварь в мой дом…
…замиряться… армейку собрать из десятка приличных вахтаг и ударить…
…Агбай-нойон… побережники… Юым…
Слышал ли Ырхыз, видел ли возмущение, привнесенное Тавашем, понимал ли, чем оно может обернуться — Элья не знала. Как не знала и то, что будет, если Ырхыз увидит, поймет и прислушается к мудрым советам. О будущем она старалась не думать.
— А куда мы едем? — Элья вдруг поймала себя на мысли, что не имеет понятия о конечной точке путешествия.
— Вед-Хаальд. Бывшая фактория Рушшид. Памятное местечко, так ведь?
Только теперь Элья поняла, почему местность ей кажется знакомой: они въезжали в долину Гаррах.
Если хочешь сойти на обочину — попроси у дороги отпустить тебя.
Присказка бродячих торговцев.
И стала прекрасная ханмари волосы из косы дергать да на дорогу бросать, приговаривать слова тайные, что лишь ханмэ ведомы. И вытянулась тропа золотая до самого края мира, тонка и крепка, по-над лесом подымается, по-над рекой мостом выгибается.
Птицею, стрелою летит по ней конь, звенят подковы, сияет броня на всаднике. Грозный взгляд его погибелью похитителям подлым пылает да любовью к деве чудесной…
…и было то не далеко и не близко, не давно и не недавно, а во времена злого кагана Ырхызы.
Сказки бабушки Белянки, услышанные и записанные в доме на краю Зазватского леса Кверцци Фабулярием составления книги потешной ради.
— Лихарь, не свисти.
— Да глазом клянусь, самотки видел да ухами слышал! Верно говорю — Хирюк то был. Что я, не спознаю, что ли? Ну-тка его в кровищу уделали, таки я ж не спорю, но он это был, он! И голос-то, голос не спуташь! Орал-тка знатно, кады ему кости на колесе ломали.
— От и говорю, что свистишь. — Толстый мужик в меховом жилете на голое тело, тряс кубок. Внутри перекатывались, звенели вороньи глазки. Лицо толстяка лоснилось от жира, нижняя губа обвисала под тяжестью серебряного обережца, и видны были белесые, покрытые мелкими язвочками, десны. — Хирюк, что твой лоб — крепкий был аки каменище. И орать бы не стал.
— А ой-тки ты мое, не стал! — захрюкал лысоватый тип в цветастом халате, перевязанным крест-накрест теплым платком.
Он сидел близко к огню, сунув ноги в кучку серого пепла, которую то и дело пополнял, голыми руками выгребая из костра угли. — Верещал, что хряк недорезанный. И покаялся будто по писаному! Я самки-сам слышамши, как сознался, и что по наущенью кашлюнов вахтагу сбил, и что людей на бунт подговаривал, и что это он под Фельтином склады с зерном пожегши, и что на Сонный Гув мор тож он наслал.
— Каялся, ага. Чистосердешно, видать… Тебя, мурло, на дыбу на часок — и ты покаешься.
— Ну-тка да, но-тка нет, — возразил лысоватый, подвигаясь и позволяя присесть Бельту. — Ты всякое говорить можешь, но всем ведомо, что от кашлюнов все беды. Посулили недурную деньгу кхарны, он и засыкался. От кашлюнов всё зло.
— И от крыланов, — наконец вставил слово Бельт, до того вежливо отмалчивавшийся, дающий к себе привыкнуть этим подозрительным ко всему людишкам. Почти искренне сказал, потому как шрам не то, чтобы болью налился — засвербел, напоминая.
— И от них тож. Особливо здесь. Я — Лихарь, — представился мужичок, хлюпнув носом. Он поворошил палкой в костре, распугивая вокруг пламени искры, сунув руку, вытащил горсточку угольков, которые тут же высыпал на пепел. Похлопал, разровнял, подул, распаляя жар. — А энто, значится, Жорник.