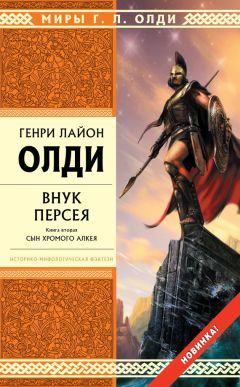Тем не менее, это было быстрее — а главное, безопаснее, — чем давиться в толпе.
Суд, изгнание, оракул — сын хромого Алкея не помнил ничего. В душе, соперничая с пожаром катастрофы, пылало единственное, всепоглощающее желание: отыскать Алкмену. Встать рядом, защитить… Любовь? Страсть? Верность?! Он не задумывался, как это называется. Остановись Амфитрион, дай волю рассудку, и тот услужливо разъяснил бы: «Ты опоздал спасти ее братьев. Ты убил ее отца. Мать Алкмены — твоя родная сестра! — повредилась умом. Невежды сказали бы: кому есть дело до дочери покойного владыки Микен, кроме тебя? Но мудрецы — о-о, мудрецы знают истину. Спасай свою шкуру, изгнанник! Ищи очищения в чужих краях! Вот что сказали бы мудрецы…» Да, рассудок нашел бы внятные, полезные, и даже благородные объяснения. Каких желаете? — подыщем на любой вкус. Но рассудок — не воин, ему требовалась остановка, передышка, а Амфитрион не мог себе позволить и миг промедления. Он спотыкался, падал, колени кровоточили, и ладони, и бока, хитон же — лохмотья, рванина; хорошо еще, что тут нечему гореть — голые ветки кустов, ссохшиеся до гранитной твердости, сопротивлялись волнам жара, и лишь дымили местами. Полосы удушливого дыма Амфитрион проскакивал, согнувшись в три погибели, кашляя и закрывая лицо руками. Глаза слезились, он с трудом разбирал дорогу. Спасибо беснующемуся солнцу — в темноте он давно бы уже катился вниз ободранным куском мяса.
— Хаа-ай, гроза над морем…
Пел он, или бормотал, или вовсе молчал, беззвучно шевеля запекшимися губами — не все ли равно, если дедова песня придала сил? Цепляясь за горячие, за колючие руки маквиса, Амфитрион взял правее. Там, помнилось ему, был шанс выбраться на тропу, ведущую к калитке. Дед однажды проехал здесь на колеснице, и внука взял с собой, хотя мама ругалась; Амфитрион был маленький, едва выше перил, а тропа спиралью опоясывала холм, выводя к Хавосскому ущелью…
— Вы чего это, а? Вы куда?
— Прочь с дороги!
— Нет, вы чего?
— Прочь, болван!
Сперва Амфитрион решил, что безумие настигло его. Голоса неслись с неба — откуда ж еще? Боги, опаленные диким солнцем, вдруг заговорили грубо, как простые смертные. В вопросах сыну Алкея чудился бас Тритона, в ответах — напор оратора, с каким на суде выступал молодой терет. Да нет же, точно, Тритон…
— Куда вы их, а?
— Жить надоело, дурак?
— Ох! Больно! Главк, она кусается…
И женский вопль из-под прокушенной ладони:
— Тритон, спасай!..
— Алкмена? — изумился Тритон, откуда бы он ни взялся.
— Ты, бугай! Не лезь не в свое дело!
— Эй, значит! — упорствовал Тритон. — Сам бугай! Давай ее сюда!
— Пошел вон!
— Сюда! — и воплем искреннего сердца: — Это же наше!
— Это дочь ванакта! Это вдова ванакта!
— Наше!
Верный тирренец твердо помнил: дочь ванакта была обещана Амфитриону. И не делал разницы между коровами и невестой. Наше, и хоть ты тресни.
— Город горит! Мы вывозим их в Мидею!
— Тритон! На помощь…
Тропа была над головой. Голоса неслись оттуда: споря, сердясь, умоляя. Временами их перекрывало конское ржание. Рассудок, трусливый мерзавец, свалился в пропасть; освободившись от докучливой ноши, не размышляя, легкий как ветер, Амфитрион на четвереньках кинулся вперед, по склону. Боль в коленях, в ладонях подстегивала его: скорей! Кто-то прыгнул ему на спину, оседлал, придавил к земле. Жесткая рука обручем перехватила горло, лишая дыхания.
— Валите дурака! — жаркий крик опалил затылок. — Быстрей! А я…
Извернувшись змеей, Амфитрион едва успел поймать чужое запястье. Бронза ножа сверкнула в глаза. Сила нашла на силу; острие сползло ниже, к щеке, царапнуло скулу, и нехотя, еще помня вкус живой крови, начало отодвигаться. Мышцы спины взвыли от напряжения и боли. Под лопатками шевелились корни вереска, хищными узлами выпятившись из глинистой почвы. Казалось, из земли, бодаясь твердыми рожками, лезет сатир. Высвободив вторую руку, Амфитрион ухватил нападающего за глотку. Кадык, хрящеватый и скользкий, хрустнул в мертвой хватке. Человек захрипел; мотнув головой, резко откинулся назад, желая высвободиться. Нож выпал из онемевших пальцев, плашмя ударил Амфитриона в рот. Лопнула губа; на языке — медь и соль. Лежа на спине, сын Алкея согнул ноги в коленях, подтянув их к груди — проклятый сатир вонзил рога до самого сердца! — и изо всех сил брыкнул, как бойкий жеребенок. Враг еще хрипел, когда удар пришелся несчастному в живот. И вот уже Амфитрион навалился сверху, укрощая бьющееся тело, будто строптивого пса, вдавливая чье-то лицо в россыпь камней. Холм плясал, небо плясало; это была оргия во славу нового, безымянного бога. Ритм опьянял, даря лишний глоток воздуха. Вскинувшись единым движением, Амфитрион вознес руки к пылающему небу, беря ночное солнце в свидетели — и, крича, опустил кулаки на хребет поверженного. Так рушатся горы; так падает шторм. Треск, задыхающийся стон — не оборачиваясь, не интересуясь судьбой человека, раненого или убитого, Амфитрион птицей взлетел на тропу. Ударился головой о борт колесницы, рассек лоб; выхватил из-под копыт лошадей оброненное кем-то копье. Ясеневое древко само легло в руки. По лицу струилась кровь, затекала в глаза. Смутная фигура колыхалась перед ним, напрашиваясь на выпад.
— Все, — сказал Тритон. — Ты это…
— Кто? Где?!
— В меня не тычь, а?
Стражник со свернутой шеей лежал у ног тирренца. Другой стражник скорчился на земле ближе к запертой калитке. Дротик торчал у него между ребер. На фоне вселенской катастрофы две мелкие смерти смотрелись пустяком, занозой в ляжке великана. Умри сотня, тысяча — мир и не поморщится, готовясь сползти в бездну. Конец близился — на севере, со стороны Олимпа, вставала крепость из туч. Иссиня-черная, она разрослась на полнеба. В клубящейся мгле Зевесовой эгиды[67] — колесами по булыжнику — перекатывался гром. Рычание было таким низким, что воспринималось не слухом — телом. Две враждующие силы разделили небесный свод: туче досталась северная половина, солнцу — южная. Ком огня метался зверем, угодившим в западню. Напрасно! — скрытый во тьме Зевс уже замахнулся для удара. Молния, блеском соперничающая с солнцем, в броске покрыла чудовищное расстояние. Следом уже торопилась вторая, третья, десятая. Без перерыва, сотрясая Ойкумену, огонь бил в огонь. Забыв обо всем, Амфитрион упал ничком, закрыв голову руками. Любовь, верность, страх — ничто больше не имело значения. Наверное, в Аиде, на переправе из царства живых в царство теней, он вспомнит крик Алкмены, упрямство Тритона, драку на склоне — и, хлебнув из Леты, забудет навеки. К чему теням память? Особенно если царство живых перестало существовать, разодранное в клочья битвой пламени и пламени…