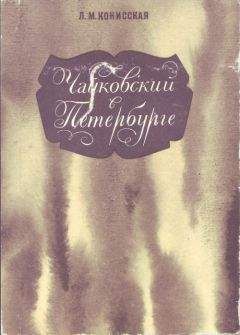Казалось, тяжелый душевный кризис обновил творческие устремления Чайковского.
Композитор был далеко, а музыка его жила и звучала в Петербурге.
Весной 1878 года, в отсутствие Чайковского, в Петербурге Николай Григорьевич Рубинштейн с успехом исполнил его Ь–мольный концерт — тот самый, который так не понравился ему четыре года назад.
Об этом С. И. Танеев писал Чайковскому:
«Он (Ник. Григорьевич) играл удивительно хорошо. Ваш концерт прошел с большим успехом… Проходя по зале, слушал, что в публике хвалили ваш концерт. Кюи говорит, что ни одно ваше сочинение ему так не нравится… «не особенно глубоко, но свежесть вдохновения необычайная». Ларошу концерт с каждым разом все больше и больше нравится».
П. И. Чайковский. 1881 г.
За пять дней перед этим играли в Петербурге впервые симфоническую фантазию «Франческа да Римини», созданную в сентябре — октябре 1876 года. «Публика была в восторге; вызывали Направника множество раз, поднесли ему корзину с букетами, которые он разбросал оркестру».
После долгого, почти годового отсутствия Чайковский вернулся наконец в Петербург. Была осень. Та самая осень, когда после окончания русско–турецкой войны возвращались на родину измученные солдаты. Та осень, о которой писал Александр Блок:
Уж осень семьдесят восьмую
Дотягивает старый век.
В Европе спорится работа,
А здесь — по–прежнему в болото
Глядит унылая заря…
«Петербург производит в настоящее время самое давящее, тоскливое действие на душу, — взволнованно писал Чайковский. — Во–первых, погода ужасная, туман, бесконечный дождь, сырость. Во–вторых, встречаемые на каждом шагу казачьи разъезды, напоминающие осадное положение; в–третьих, возвращающиеся после позорного мира войска, — все это раздражает и наводит тоску. Мы переживаем ужасное время, и когда начинаешь вдумываться в происходящее, то страшно делается. С одной стороны, совершенно оторопевшее правительство, до того потерявшееся, что Аксаков ссылается за смелое, правдивое слово; с другой стороны—-несчастная сумасшедшая молодежь, целыми тысячами без суда ссылаемая туда, куда ворон костей не заносил, а среди этих двух крайностей равнодушная ко всему, погрязшая в эгоистические интересы масса, без всякого протеста смотрящая на то и на другое…» И дальше: «…про меня часто пишут в газетах, про меня говорят, а я более чем кто‑либо охвачен страхом публичности. Мне все хочется от кого‑то и куда-то спрятаться, убежать… я решительно не могу ни с кем из посторонних видеться и встречаться без душевного терзания, а так как в Петербурге масса людей, меня знающих, то, чтобы избегать встреч, я днем скрываюсь, а вечером решительно избегаю публичных сборищ… счастье тому, кто может скрываться от созерцания этой грустной картины в мире искусства. К сожалению, в настоящую минуту я не имею возможности посредством работы забыться и скрыться. Несмотря на общество брата, отца, мне здесь невесело, непривольно, грустно».
Беспокойное состояние Чайковского усугублялось тем, что предстояла встреча с отцом, а она, после всего пережитого, очень тревожила Петра Ильича и смущала его.
Илья Петрович жил еще на даче в Павловске. Братья поехали прежде всего к нему. Об этом Петр Ильич писал 4 сентября 1878 года Модесту:
«В день приезда, в субботу, мы ездили с Толей в Павловск и нашли папочку здоровым и веселым. Были слезы при встрече. В первый раз в жизни я испытывал неловкое ощущение от папиного общества. Это происходит вследствие умалчивания ему о моих прошлогодних катастрофах… Вечером мы были на музыке. Сегодня обед у Палкина (ресторан в Петербурге на Невском, где теперь кинотеатр «Титан». — Л. К.) с папой и Елизаветой Михайловной, которые переезжают в город. (В то время Илья Петрович жил еще в доме на углу Канонерской и Могилевской улиц. — Л. К.). Третьего дня был в институте у Анны (племянница Петра Ильича, дочь его сестры. — Л. К.), которую нашел прелестной, очень хорошенькой институткой».
Казалось, теперь наступил тот период в жизни Чайковского, когда он может спокойно начать заниматься творчеством, и только им.
Однако что‑то как будто надломилось в нем, время от времени его начинала угнетать жизнь в столице, где особенно отчетливо проявлялись жестокие стороны самодержавия.
Многие представители русской интеллигенции того времени чувствовали всей душой неладное и тяжкое, что творилось кругом, и не понимали причин этого. Почти в то же время и с таким же настроением писал художник Крамской: «Ужасное время. Точь–в-точь в запертой комнате, в глухую ночь, в кромешной тьме сидят люди, и только время от времени кто‑то в кого‑то выстрелил, кто-то кого‑то «зарезал», но кто, кого, за что? —никто не знает…»
Какое удивительное определение смятенного состояния, владевшего этими людьми! Единственным спасением казался уход в творчество, которое, однако, не могло не отражать настроений, навеянных окружающим.
Перед отъездом из Петербурга Чайковский писал Надежде Филаретовне:
«Сегодня я уезжаю в Москву. Третьего дня я провел вечер у Давыдова, здешнего директора Консерватории. Это единственный дом в Петербурге (кроме отцовского), в котором я чувствую себя в симпатичной и родственной среде».
Как раз в этот приезд Чайковского Давыдов особенно уговаривал его перейти в Петербургскую консерваторию, предлагая большую, чем в Московской консерватории, оплату за меньшее количество часов.
Композитор ответил отказом.
А из Москвы Петр Ильич пишет Анатолию: «Сама Москва для меня огромная, отвратительная темница». Отвыкнув от России, от страшного гнета реакции, Петр Ильич не находит себе места. В Петербурге ему тяжко, в Москве еще хуже — там надо продолжать надоевшие, не дающие возможности отдаться творчеству занятия в консерватории. Он чувствует чутьем художника неблагополу–чие окружающего мира и мечется в поисках уголка, где можно скрыться, чтобы творить.
6 октября Чайковский дает свой последний урок и, окончательно порвав с Московской консерваторией, после прощального обеда 7 октября уезжает в Петербург. К этому времени Анатолий Ильич уже жил на углу Невского проспекта и Новой (теперь Пушкинской) улицы в доме № 75/2.
Петр Ильич поехал прямо к нему.
Из этой новой квартиры он писал Надежде Филаретовне фон Мекк 10 октября: «Я поселился на одной лестнице с братом Толей в небольшом меблированном апартаменте, очень покойном и удобном. Нечего и говорить, что мне приятно было увидеться с братом, отцом и несколькими друзьями».
«…У меня родство огромное, — сообщал он ей же 14 октября, — и все мои родные живут в Петербурге. Это очень тяжелое иго. Несмотря на узы крови, люди эти по большей части мне совершенно чужды…»