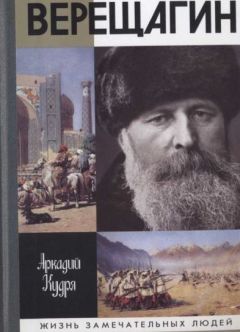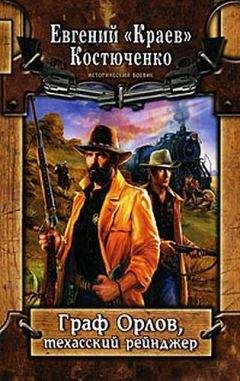Верещагин быстро соображает: открытая форточка, вот в чем дело! Он делает к ласточке шаг, чтоб взять ее, но та бьет крыльями об пол, взлетает – удар об оконное стекло, падение, снова взлет, удар, снова падение… Верещагин мечется по комнате, еще удар и еще. Верещагин болезненно морщится после каждого, наконец ласточка запуталась в оконной шторе. Верещагин ловит ее.
Ом держит нежное тельце в слабо сжатом кулаке – никогда прежде не прикасался к ласточке, это, если разобраться, большая удача, крылатый ободряющий знак свыше, поэтому Верещагин не торопится дать ласточке свободу – конечно, он ее выпустит, но сначала полюбуется вольной небесной пташкой, он намерен хорошенько ее рассмотреть, не каждый день падают ласточки в наши руки и не в каждые, не в каждые. Верещагин подносит и пленницу к глазам, но вдруг начинает ощущать судорожное истерическое биение птичьего сердца, – удар, еще удар, о ладонь, как о стену телом, каждый раз как в последний раз, – господи, это же не просто ласточка – чужое сердце! разорвется, не выдержит – шаровая молния в кулаке – скорей, пока еще не лопнуло, не взорвалось, каждый удар как последний, куда там рассматривать, побыстрей к окну, руку в форточку, разжать кулак…
Все. Слава богу, успел…
Будто скользкая абрикосовая косточка, выпрыскивает птица из кулака в небо стремглав; слава богу, жива – по прямой, все дальше и дальше, превращается в точку… Исчезла.
«Фу!» – Верещагин вздыхает облегченно, но и не без разочарования. Похоже, он ждал, что ласточка обернется на лету и скажет: «Спасибо».
…Дальше бы и не надо вспоминать, но справедливости ради следует отметить величайшее душевное расстройство, охватившее Верещагина на следующее утро. Ему вдруг пришла в голову такая мысль: ласточка, наверное, думает, что вырвалась из его рук сама. Откуда ей знать о великодушии Верещагина? Разве птице доступно разумение бескорыстия и доброты? «В лапы такому недотепе попалась, что не смог меня удержать», вот что, наверное, думает ласточка.
Не маленький уже был Верещагин, за тридцать, а расстроился, представив, как дурно, может быть, истолкует ласточка благородство его поступка.
162
«Вам звонят по телефону», – говорит краснеющий оператор Юрасик, щеки его приобретают цвет лака для ногтей, из чего Верещагин опять безошибочно выводит, что звонит женщина, Ия, тревожно глядя иноземными глазами, уже трубку протягивает – это директор звонит, просит зайти, говорит: «Срочно», – Верещагин идет к нему. Он встревожен: почему «срочно»? уж не пронюхал ли Пеликан о Дне Творения? Быть этого не может, – убеждает себя Верещагин, – неоткуда Пеликану узнать, но – вдруг операторы нечаянно выболтали, Петя выдал… Поднимаясь по лестнице, Верещагин терзает себя сомнениями, и сердце с каждой ступенькой стучит все сильнее и сильнее, когда он добирается до приемной, оно уже как ласточкино в кулаке – каждый удар как последний.
В кабинете директора такая жара, что Верещагин сразу же расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. «Жарко!» – объясняет он, чтоб директор не подумал, что это он от волнения расстегивается, – в одном недавнем теле фильме Верещагин видел очень смешной похожий эпизод: допрашивают уголовника, тот держится нагло и снисходительно, на устах насмешливая улыбка, он убежден в своей неуязвимости, улик нет, следы преступления заметены на славу, ему даже по-человечески жаль бедного следователя, который, кстати, задает совсем не те вопросы ищет не там, где надо, но, как выясняется в дальнейшем делает это для притупления у преступника бдительности на самом же деле ему все известно, и в конце концов он вдруг бьет не в бровь, а в глаз: «Кстати, не знакома ли ним буфетчица по имени Тамара?» – на что допрашиваемый, переменившись в лице и потеряв всю уверенность, говорит, задыхаясь: «Можно я сниму рубашку?»- так сильно его бросило в жар от испуга.
«Хорошо тебе в твоем холодильнике, – отвечает директор. Он имеет в виду верещагинский подвал. – А я целый день сижу в этой духотище, – несмотря на жару, он пьет чай и читает газету. – Где ты такой мундштучок достал?» – спрашивает он Верещагина и шуршит пересохший газетой, складывает. «Сам сделал», – отвечает Верещагин и садится – эпизод из телефильма не идет у него из головы. «Неужели сам? – удивляется директор. – Чем вырезал? А выточил где?» Верещагин отвечает: вырезал ножичком, выточил в мастерской… «Золотые у тебя руки!» – говорит директор и смотрит на мундштук как бы с завистью – прикидывается, главный козырь в кармане, сейчас выложит. «Кстати, не знакома ли вам буфетчица по имени Тамара?»
«Кстати, зачем ты брал в лаборатории медный купорос?» – спрашивает директор. Верещагин, вмиг раскрасневшись, говорит: «Можно я сниму рубашку?», чем очень удивляет директора, который, наверное, не видел телефильма… Нет, пожалуй, все же видел, отвечает точно как следователь: «Если это необходимо» – события развиваются с неумолимой детерминированностью.
Верещагин снимает рубашку, остается в белой чистой майке – вчера из прачечной. «Ну, как? Легче? – спрашивает директор-следователь, нисколько не отклоняясь от сценария. – Эх, вы, жители подземелий, не выносите нашего поверхностного климата!» От этих слов Верещагин немного приободряется, потому что в телефильме дальше шел другой текст, но, надо признать, директор сочиняет не хуже: «Кстати, – говорит он, – чего это ты разогнался менять нагреватель у седьмой печи?» «Все, крышка!» – думает Верещагин. Он вскакивает и начинает быстро ходить по кабинету – тоже резко отклоняясь от сценария, преступник вскакивать себе не позволял. «Чего это ты?» – удивляется директор. «Можно я сниму майку?» – спрашивает Верещагин. «Ну, это уже слишком, – возражает директор. – Могут войти…»
И действительно входит: секретарша. На ее лице удивленно, но не тем вызванное, что Верещагин голый, свое удивление она принесла из приемной: некто набирает номер директорского телефона и спрашивает – кого бы вы думали? – Верещагина. Так она говорит. «Кого бы вы думали?» – она не говорит, ловко изображает, используя минимум мимических средств: работают только брови: кого бы вы думали? и уголки рта: просто безобразие! глаза же бесстрастны и великолепны, заглянув в них, Beрещагин бросается к рубашке. «Так соедините», – говорит директор небрежно и легко, будто нет ничего удивительного в том, что звонят директору, а спрашивают человека из подвала. «Бери трубку», – говорит он Верещагину, тот бормочет: «Подожди», – запутался в рубашке: пытается просунуть в рукав голову, которая, естественно, лезть не желает, узковато для нее, у Верещагина голова – ого-го! Он задыхается, ослеплен. «Я вам помогу», – слышит голос, нежные руки касаются тела – мгновенье, и голова водворена на место, проскальзывает в для нее созданное отверстие, тьма сменяется светом, совсем близко – глаза секретарши, ласковый, теплый взгляд, пробужденная верещагинскими муками материнская доброта. «Не знакома ли вам буфетчица по имени Тамара?» – спрашивает Верещагин. «Буфетчица? – секретарша оскорблена, смеется коротким ледяным смешком. – Таких знакомых не имею. А что?» – «Вы на нее похожи», – объясняет Верещагин, если уж он начал запутываться, остановить этот процесс ни в чьих силах: его голову куда надо направят, так он выпроставшейся головой дурацкий вопрос задает. «Какие глупости!» – говорит секретарша, ее глаза снова холодны и недоступны, как северное сияние. «Ей-богу!»- настаивает на сходстве Верещагин. «Ты возьмешь трубку или нет?» – спрашивает директор, Верещагин берет и оглушает присутствующих внезапным воплем: «Алло! Да! Я слушаю!» Он кричит без всякого повода, углышком сознания отмечая, что повода нет, но ведь углышком сознания только и умеют что отмечать, влиять на поступки они не способны, поэтому Верещагин кричит еще громче «Да! Я! Не нашел! Нет бумажки – пропала, пропала! Я поищу! Хорошо! Позвоните через неделю! Все! Все!» И вдруг он истошно орет совсем другие слова: «Берите, берите карандаш, быстрее! Записывайте! Диаметр отверстия… Угол сверления… Расстояние между центрами…»