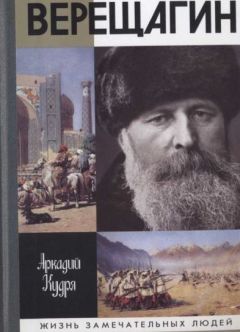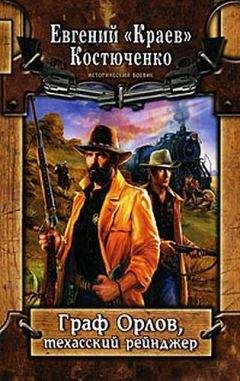Мальчишки не поняли причин верещагинского поступка, они закричали: «Что вы сделали? Она же не ваша!», а хозяин птички вдруг разревелся по всем правилам детского плача: с обильными слезами, соплями и громкими всхлипами, хотя это был уже довольно большой мальчик, лет десяти.
164
С криком: «Я – гений! Я – гений!» Верещагин ворвался в квартиру, промчался через прихожую, вбежал в комнату и пнул ногой лежащую на полу папку с воспоминаниями о прежней жизни, – сначала одну, потом другую, третью, четвертую, пятую, а соседи первого, второго, третьего, четвертого, а также пятого этажей пооткрывали двери своих квартир, чтоб узнать, чей это вопль пронесся по лестнице – верещагинский крик достиг их ушей, отразившись эхом от потолка, стен, оконных стекол, половиц; тысячекратно повторенный каждой ступенькой, всеми изгибами лестничного хода, этажных площадок, дверных щелей, он разложился и размножился миллионом восклицаний – беспорядочная толпа бессмысленных звуков вломилась в квартиры соседей; не крик: «Я – гений!» услышали они, а нечеловеческий вой, похожий на сирену военного времени, извещающую о приближении вражеских бомбардировщиков, и даже еще больше на вой уже падающих вражеских бомб и вот соседи стали выходить из дверей, чтоб посмотреть, что же это, а Верещагин тем временем азартно пинал папки с воспоминаниями и надеждами, с фотографиями и заблуждениями, с детской каллиграфией, взрослыми каракулями, юношеским честолюбием, забытыми девушками, поздравительными открытками, студенческими курсовыми – ибо гению прошлое ни к чему. Он допинался до дивана, двигаясь к нему как ледокол в белых льдах, он вперил безумный взор в измятые желтые листки, разбросанные по его поверхности, и хищно сказал: «Ага!»
Сказав: «Ага!», он совершил странное внутреннее усилие – может быть, воли, а может, ума, напряг немую божественную мышцу, – и то, что, с одной стороны, написано на листках, и то, что, с другой, увидел вдруг одновременно, разом, со стереоскопической отчетливостью каким-то незрячим доселе зрительным органом, и каким-то глухим прежде ухом услышал свои расчеты, как прекрасную песню… «Боже мой! – вскричал он. – Век бы смотреть и слушать!»
165
Что произошло с Верещагиным, я объяснить не всилах. Могу сказать только следующее: способу напрягать в себе некую божественную мышцу Верещагин научился случайно, в тот момент, когда стоял посреди директорского кабинета с телефонной трубкой в руке. Получилось очень странно: он нечаянно сделал какое-то внутреннее усилие, и его мозг вдруг с абсолютной точностью вспоминал – или заново в одно мгновенье рассчитал? – все параметры позабытого волчка: ширину отверстий, угол их наклона и прочее… Это нечаянное усилие чем-то напоминало то, каким Верещагин когда-то остановил мысли, – данное событие описано в семьдесят восьмой главе. Но тогда он не воспользовался открытым умением, тотчас же и забыл о нем, теперь же не стал упускать удачу. Мчась с воем домой, пиная папки с прошлым, пробираясь к дивану, он думал только об одном: побыстрее к листкам, побыстрее, пока случайно открытое умение обострять работу мозга не забылось, пока еще помнится, как делать это странное внутреннее усилие, как напрягать эту божественную мышцу.
И вот наконец он добрался до листков, глядя на них, напряг божественную мышцу, со стереоскопической отчетливостью увидел все, на них написанное, услышал свои расчеты, как прекрасную песню, вскричал: «Век бы смотреть и слушать» и тут вдруг…
Вдруг он содрогнулся. В прекрасной песне неожиданно прозвучало несколько фальшивых звуков – глухое доселе ухо их услышало, а незрячий прежде глаз мгновенно засек те места в партитуре, где неверные ноты находились. «О боже, – вскричал Верещагин. – Здесь же колоссальнейшая и грубейшая ошибка! Теперь я понял, почему Красильников воротил нос и предостерегал! Тут работы еще и работы! На сто лет!»
Вот так все происходило. Я описал реальный исторический факт, хотя, понимаю, найдется читатель, которому вся эта история с божественной мышцей покажется белибердой и вымыслом. Но неужели он, этот читатель, думает, что если б я захотел встать на безответственный путь вымысла, то не смог бы придумать чего-нибудь эффектнее? Я придерживаюсь фактов, поэтому пишу: Верещагин напряг божественную мышцу и, охватив разумом всю работу как единое целое, обнаружил в ней ошибку. Если же выдумывал бы, то написал бы иначе, – такое, что у читателя голова кругом пошла бы.
Например, вот что написал бы я. Верещагин ошибку не замечает, – так бы я сделал. Он ставит эксперимент, исходя из неверных расчетов, в результате чего возникает уродливая субстанция, которую я не могу назвать иначе, как кРИСТАЛЛ, то есть веществом с маленькой буквы, потому что оно – плод ошибочной мысли; элементарные частицы, из которых состоит этот кРИСТАЛЛ, только считанные мгновенья могут находиться во взаимосвязи и гармонии. А затем начинают разлетаться в разные стороны.
Правда, так интереснее?
Это страшный разлет. Удержать частицу некому.
Неуклюже пошатываясь, здание института отрывается от фундамента и улетает в небо, разваливаясь там на куски, форма которых прекрасна своей случайностью.
Лицо города искажается предсмертной гримасой: улицы взгромождаются на улицы, площади на переулки, и вот уже только красная кирпичная пыль несется над безжизненной равниной.
Несется красное облако, и все, что встречается на пути: птицы, деревья, столбы, села и животные – все падает, окрашиваясь в красный цвет – кто навзничь, кто ничком.
Несутся по воздуху, обгоняя друг друга, телефонные будки. Посреди безжизненной равнины бешено сверкает новенькая двушка, отштампованная на Монетном дворе для того, чтобы с ее помощью мальчик Коля позвонил Верещагину.
Не отдаст мальчик Коля свой долг Тине. Не засвистит больше свои песни.
Тина увезена далеко, но и там ее настигает стихия всеобщего распада, вызванная верещагинской ошибкой.
Девочки Веры больше нет. Она успевает лишь произнести в адрес Верещагина последний упрек: «Все у вас не как у людей!» Это она всегда успевает. И, как всегда, права.
Спрут взволнован. Багровым пламенем пылает автомобильная покрышка посреди его лба. «Коллеги, – говорит он, – я пришел сообщить вам пренеприятнейшее известие: единственная цивилизация, еще играющая в шахматы, исчезла».
«Это Верещагин доигрался? – спрашивает мокрица весом пуда в два. – Мне с самого начала что-то не нравилось в его расчетах».
Краснеющий оператор Юрасик красен от макушки до пят. Красный ветер шевелит волосы на лежащем рядом голубом парике Альбины.
Пепел Геннадия изящен, как тополиный пух.