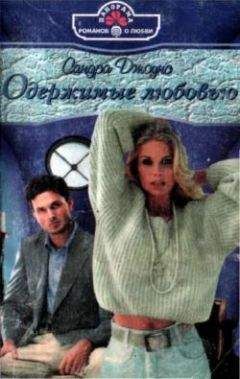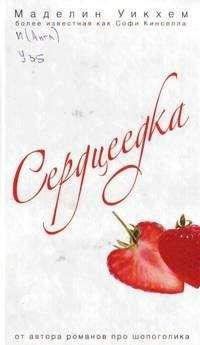— Как ты его написал, не врубаюсь?
— Да как, Ваня… Алгоритм, наверное, нашел. Конфуций тоже создатель первых алгоритмов китайской нации.
— Говнюк он, твой Конфуций!
— Всех ругаешь сегодня. Джоконда — какашка, Конфуций — тоже. Кто еще?
— Ты! Потому, что не рассказал, мямля, как можно лисировать по сырому. Помози мне, культуртрегер? Откройся? А портрет ты где-то скоммуниздил. Это вообще не твой стиль.
— Хорошо, расскажу, как. Лисировка — органический синтез выразительных средств. Чтобы овладеть драматургическим костяком и психологическим нервом лисирования, необходимо было черпать вдохновение в героике будней, романтике великих строек, пафосе освоения целины и крепнущих связях с братскими странами.
Вильчевский занёс над дружком кулачище, угрожая побоями.
Степан помозить не может. Честное слово. Помнится говорил он, что страх — тоже метод. Типа того получилось. А спёр полу-сознательно у бессознательного, как Ньютон. Сколько людей видели, как падают яблоки, только Ньютону стало обидно: почему ему и за что, собственно?
— Пою тебе радостно, преблагой клептоман, к тебе единей прибегох! А мне надо принять слабительного, сильного, как лозунг. Потому что слабительное — первое средство от бесов. Бесы сначала готовят почву, одолевая всякой тягомотинкой; ленью, обжорством, пьянством кстати. Уж потом бросаются в душу. Слабительным их умный человек всегда сподобится вышибить. Ух, как меня завидки берут! Щас погружу чресла в такси, приеду домой и сяду Томку писать.
— Ты же её раз шестьсот писал.
— И еще столько буду, пока не разведусь. Любовь — торжество воображения над интеллектом.
За окнами ветерок взбивал из облачков безе, летали птицы, взблескивала река. Жизнь бурлила. И хоть утверждал поэт, что жизнь — хамит, а смерть — любезна, только, думается, ошибался поэт. Наоборот. Степан потянулся изо всей силы, так что сладко заныли мышцы. Спору нет, бывает иногда любезна жизнь. Ах, бывает!
Стоматолог выбирая сверло, поинтересовался через плечо: какую пломбу делать: обыкновенную или металлическую? Обыкновенная — цемент, цемент — камень, камень — датчик в зубе.
— Вот тебе, Бадьян Христофорыч!
— Что вы сказали? — обернулся стоматолог.
— Я случайно. Конечно металлическую.
— Она несколько дороже.
— Зато сама себе на уме.
— Простите?
— Я про законное право каждого половозрелого на неподотчетность.
Перед дверью мастерской — листок. «Помнишь, как-то зашла утром, ты еле глаза продрал и рассказал, как ночью умирающую ворону писал? Теперь прочитай ниже.»
Рука художника несла
еще неведомое знанье.
Как чародей — секрет числа,
далёкого от пониманья.
Она проделывала путь
невесть куда… Как будто знала
от сотворенья до финала
всю сверхестественную суть.
Она прокрадывалась в сны,
она оказывала милость
всему, что маялось и билось
из вопиющей белизны.
И вдруг — прорвалось изнутри,
струясь так жутко и так просто,
как кровь, пролитая с помоста,
как благодать на алтари.
Рука мешала свет и мрак
в единую метаморфозу,
саму идею, словно позу,
переиначивая в знак.
Во всём гнездил апофеоз
противоборство сил вселенских:
в изгибах силуэтов женских,
предвосхищающих вопрос.
И в том пронзительном пятне,
ещё недавно бывшем птицей…
Ни от чего не уклониться! -
И каждый штрих на полотне.
Вся вечность, сжатая в комок…
весь миг, дошедший до предела…
Всё то, что просто быть хотело
в какой-то срок.
Возникло догмам вопреки,
по мановению момента.
По воле Рока и руки…
Руки — предтечи монумента.
Подпись — Малышева.
Степан кивнул головой.
— Ириша, ты настоящее чувствилище и поэт стоящего настоящего.
Гжимултовский в театральном плаще до пола казался каким-то бесстрастным повелителем тьмы. Степан перебрался к нему на балкон и встал рядом.
— А-а, Сиятельный Феб. Так Наставник, кажется, величает?
— Из меня Сиятельный, как из него алкоголик. Москву разглядываете?
— Интересно рассматривать такое скопление организованного камня, механизмов и биомассы.
— Значит, вы летаете? А вам не скучно вне скопления механизмов и биомассы?
Спросил и заставил себя посмотреть на город в другом ракурсе. Наверно, так современный человек смотрит на пещеры предков. Предок сидел в своей однозвёздочной пещере, довольный жизнью и представления не имел, что погодя, через миллион лет здесь раскинется огромный город. Так вот за этот город стало в некотором роде обидно. Он же всё равно уже комфортабельней пещеры. Хрущовка на пент-хаус даёт тройку. Звёздочки три, по крайней мере, на сегодня набралось.
— Нет, не скучно, мой друг. Как говорится, самая прекрасная девушка может дать только то, что у неё есть.
— Вы про возможности?
Совершенно верно. У землянина только глаза, уши, нос, сенсорика. Против этого, территория гжимултовских ощущений на порядок масштабней. Он слышит, как у землянина растут волосы. Зато в утешение художнику может сказать, что у них нет искусства. Они его импортирут.
— Как нет искусства?! — поразился Степан. — А как тогда развиваться обществу?
— Своеобразие случая. Нет, вру! Такие цивилизации встречаются. Литофитовый разум… да и Синтетический Орден. Определенно вру! Хотя, с другой стороны, я могу понять логически. Соединение двух и более явно чуждых друг другу элементов на чуждой почве может породить сильнейшую вспышку поэзии.
— Поэзия скорее алогична, чем логична для людей, увидевших второй горизонт. Или бы ею никто не интересовался.
— Ты прав. Поэтому чаще получается, что настоящее искусство там, где цивилизация молода, неустроенна, колеблема пороками, в крови и смуте. Благополучие, совершенство, идеал, коммунизм ваш — формы к которым следует стремиться, но они — состояние статуса. Поэтому зло будет всегда. Пацифисты против поджигателей войны, контрразведка против разведки, тёща — в каждой бочке затычка. Движение, борьба и содержательная жизнь. Ты думаешь, нужный портрет смог бы сделать какой-нибудь весь из себя правильный художник? Ничего подобного. Просчитано. Только такие, как ты разгильдяи.
Деликатно выражается. Русский народ говорит математичнее — рас…?=3,141593дяи.
— Как бы там ни было, ты прикоснулся к золотому телу искусства, что мир оценил.
Степан упал на камень животом, уставился на объедки заката, прошептал: