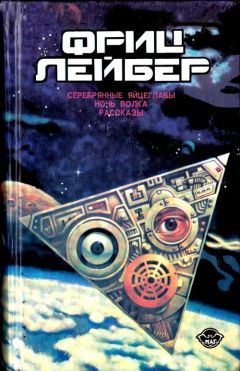Он хрипит, пытается вырваться. Бестолково бьет меня по голове, лицу, плечам. Тоже мне, удивил.
Я держу.
Наконец он затихает.
– Привет от флота Его Величества, – говорю я.
16. Сердце в банкеЯ поднимаю фонарь, который взял у сиамцев. «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСП…» – читаю и толкаю дверь. Скрииип петель. Заржавели.
Опять темнота.
– Есть здесь кто-нибудь? Эй!
Эхо. Проклятье, я все-таки заблудился.
Я оглядываюсь. Огромное темное пространство. Тусклый свет фонаря почти ничего не освещает. Шаги отдаются эхом. И еще здесь запах – какой-то очень специфический. Здесь пахнет сухостью, пылью и чем-то еще.
Иду. И почти сразу натыкаюсь на стеллаж. Опять?
В первый момент мне кажется, что я снова вернулся в сиамскую лавку. Было бы неплохо. Но потом я подношу фонарь ближе и содрогаюсь. Это хуже, чем змеиная водка. Это хуже, чем кладбище. Вот откуда этот странный запах!
Формальдегид. Спирт. Глицериновый раствор.
Огромный стеллаж уходит под потолок. Он заполнен стеклянными банками – их тысячи и тысячи.
На банках – бирки. Криво наклеенные пожелтевшие листки. Выцветшие чернила, быстрый почерк медика. Небрежные потеки клея. На стекле – слой пыли, как на бутылках хорошего вина.
Я стираю пыль ладонью.
Сомневаюсь, что это хорошее вино. В банке плавает человеческая рука. Нет, теперь действительно человеческая. Точнее, целых две руки – одна кисть почерневшая, изуродованная, в пятнах гангрены. Другая с виду совершенно здоровая…
Рядом еще одна банка – на бирке какие-то сиамские или бирманские надписи. Не разобрать.
Не могу прочитать. Дальше!
«Нил». При чем тут река? Какой-то египтянин, что ли?
Дальше.
Банки, банки, банки – разного размера и формы. И разное содержимое: человеческая почка, кусок, кажется, легкого, длинный моток кишок (меня чуть не выворачивает), трехпалая изуродованная кисть, ступня с желтыми пальцами и отросшими ногтями. Мозг – серо-желтая масса.
Тусклого света не хватает, чтобы понять, как далеко вверх тянутся эти полки. Что за маниак собрал эту коллекцию?
Я иду вдоль стеллажей. Сколько их здесь?
Дальше, дальше, дальше.
Ч-черт, пропустил.
Он был где-то здесь… Когда я закрываю глаза, вижу проявленную на внутренней стороне век голубоватую надпись. «Гельда Дантон».
Возвращаюсь.
Возвращаюсь.
Возвраща…
Здесь.
«Гельда Дантон», написано на листке.
Сердце Гельды Дантон в мутной банке вдруг начинает сокращаться. Крошечные голубые разряды пробегают по пыльной стеклянной поверхности.
…В башне – ровное гудение электричества. Гальванер кивает и замыкает рубильник.
Оно живое.
Я поднимаю револьвер. Медленно опускаю. Что я делаю? Опять поднимаю. Приготовиться. Большим пальцем взвожу курок… щелк.
Музыкальные вечера. Белое платье.
«Козмо! Козмо! Иди к гостям».
Гремящий рояль в гостиной. а-А-а-а-А-А-а!
Иногда мне казалось, что они любили оперу больше, чем меня…
Мама.
Ма-ма.
Залп. Б-бах. Вспышка разрывает темноту. Банка взрывается и огненным грибом взлетает вверх. Свет вдруг начинает моргать и гаснет.
Темнота. Перед глазами пляшет отпечаток гриба.
Я делаю шаг назад и задеваю ногой фонарь.
…Мне пятьдесят восемь лет. Это прекрасный возраст для любого адмирала.
Через час блужданий во мраке я понимаю: все. Приплыли, лейтенант.
И тогда я начинаю кричать. «Эй, кто-нибудь! Помогите! Помогите! Мэйдэй! Сос! Суки!»
Глупо, правда? Но я продолжаю кричать. Потом устаю, сажусь на пол и жду. В темноте мне чудится топот крысиных шагов. Я представляю, как крысы со всего подземелья собираются полукругом и смотрят на меня темными глазами-бусинами, ожидая сигнала к атаке. В горле жутко першит.
Кажется, я сорвал голос.
Кажется, проходят годы.
Кажется…
Где мой револьвер?
Тусклый свет фонаря режет глаза, как ножом. Фигура человека кажется черной.
Я щурюсь, смотрю на фигуру снизу вверх и говорю:
– Привет, Франя.
Она отводит фонарь в сторону, ставит на пол. Подземная держит на руке тряпичный сверток. Сверток шевелится и гулит. Я моргаю: раз, другой. Глазам становится мокро. Высовывается маленькая белая ручка.
Я откидываю голову. Камень холодит затылок. А чертовски хороший сегодня день. Сижу и улыбаюсь как идиот.
…Я беру его на руки. Неловко, как бы не уронить. Я такой большой, а он такой маленький. Мальчик. Поланский-младший.
Франя смотрит на меня. Да, я теперь не слишком красив.
Потом она переводит взгляд на малыша.
…Больше тридцати лет прошло, а я до сих пор помню этот взгляд. В темных глазах подземной мне чудится:
Я твоя мама.
Ма-ма.
17. Кит на ратушеЯ практически ничего не знаю о пулях.
Но одна из них только что прошла сквозь мое плечо.
…Бывает так: живешь, живешь и знать ничего не знаешь. И вдруг в тебя стреляют. И тут ценность знаний о пулях резко возрастает. Жаль, что я не ходил в какой-нибудь стрелковый класс вместо артиллерийского, думаешь ты и кричишь «Ааааа!». Это шок.
Пуля аккуратно протыкает мою бицепсиальную мышцу и летит дальше, чуть изменив траекторию. Там, наверное, она войдет в стену дома, где застрянет лет на двадцать – до ближайшего пожара.
Ощущения – словно мне проткнули плечо раскаленной кочергой.
Потом мне объяснили, что это обычная винтовочная пуля – свинцовая, в латунной оболочке. Так называемая «джентльменская пуля», которая не наносит развороченных ран, а только убивает – аккуратно и чисто. Правда, для этого надо попасть куда-нибудь посерьезнее бицепса. Теоретически даже с пулей, прошедшей сквозь сердце, я могу прожить еще целых пять секунд.
То есть логичней все-таки изучать медицину, чем баллистику.
Когда Франя привела нас к Грэму, я подумал, что он уже мертв. Но потом я передумал. Все-таки мертвые редко храпят. Ну, я так считаю.
А потом мы пошли наверх. Я, Грэм и Поланский-младший…
– Или вы думаете, порох внизу не взрывается?! – говорю я журналисту. Мы выбираемся из подземелий другим путем. Грэм оборачивает ко мне бледное перекошенное лицо:
– Вперед! Уже недалеко. Бежим!
И мы бежим.
Во мне какая-то странная легкость. Я не сплю толком вторые сутки, все вокруг слегка размытое и нереальное. Звуки доносятся издалека. Под подошвами хлюпает грязь. Сзади что-то глухо лопается, падает, звучат приказы и выстрелы. Еще выстрелы. Свист пуль. А потом я внезапно спотыкаюсь на ровном месте. Выпрямляюсь и снова бегу.
Почти не болит.
Ровная такая дырочка. Даже крови нет.
Аааа!
Шок.
Площадь Песочных часов тонет в серых сумерках.
Мечутся лучи фонарей. Грохочут ботинки морских пехотинцев. Звучат команды, отдаленные крики. Что здесь происходит вообще? Подталкивая прикладами, морпехи ведут каких-то бедолаг в брезентовых плащах. Один из арестованных хватается за горло, царапает ногтями, словно его раздирают изнутри. Морпех давит ботинком упавший респиратор.