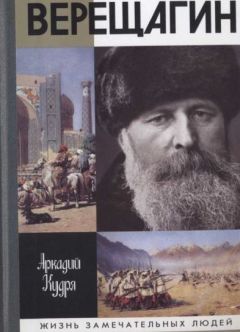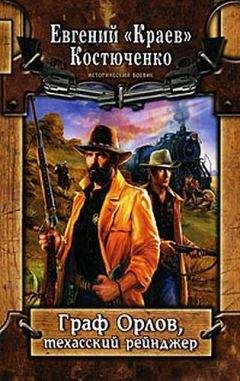Первый мастер, встреченный в Порелово, был фотограф.
Верещагин зашел в фотоателье, чтоб сфотографироваться для пропуска, о чем так и заявил: «Мне для пропуска», но фотограф не удовлетворился сказанным и задал совершенно лишний, по мнению Верещагина, вопрос: «Для какого?» – «Для обыкновенного», – сердито ответил Верещагин, сел в кресло напротив зрачка фотокамеры и стал в этом кресле от нетерпения ерзать. Он думал, что объяснил все.
Фотограф оказался спокойным, уверенным в себе человеком, не раздражаясь и не торопясь, он разъяснил Верещагину, что фотографии для пропуска бывают разные. Если клиент собирается работать, например, на мясокомбинате, то размер фотографии для мясокомбинатского пропуска – три сантиметра на четыре, если же, скажем, в институте керамических сплавов, то размер совсем другой: четыре на шесть. Верещагин вынужден был сообщить, что поступает на работу именно в институт керамических сплавов. «Вот теперь все ясно», – сказал фотограф и не спеша стал готовить камеру к съемке.
Пока он это делал, Верещагин разговорился с ним. Фотограф ему понравился спокойной своей справедливостью. Как раз накануне Верещагин прочитал в каком-то журнале статью о том, как один бельгийский, кажется, фотолюбитель сфотографировал улитку, которая ползла по листку, оставляя за собой мокрый след, и прославился этой фотографией на весь мир. Ему штук десять международных премий за нее дали. «У вас, наверное, тоже накопилось немало оригинальных снимков», – высказал, предположение Верещагин, уверенный, что конечно же накопилось, так как фотограф был пожилым человеком и многое должен был успеть снять на своем веку, но получил неожиданный ответ. «Я не ищущий фотограф, – ответил фотограф. – Я просто фотограф. Но зато я хорошо знаю свое дело».
Он рассказал Верещагину, что в Порелово есть несколько ищущих фотолюбителей, чьи снимки выставлялись даже на различных выставках, но сколько бы они там ни искали, в конце концов обязательно прибегают к нему, чтоб проконсультироваться насчет состава проявителей, а также с просьбами помочь как следует отпечатать их оригинальные снимки. «Щелкнуть – это они умеют, – сказал фотограф. – Они все ищут и ищут, как бы поинтересней снять, у них, видите ли, творческое воображение, а умения – никакого, без меня обойтись не могут. Потому что я – мастер».
Верещагин удивлялся, слушая эту речь. Что-то подобное говорил однажды Красильников о мужчинах и женщинах. Что мужчина всю жизнь ищет новое, пробует как лучше, ошибается, экспериментирует и запечатлевает все это на своих хромосомных фотопленках, в потом, прибежав к женщине, отпечатывает все заснятое на детях, как фотобумаге, для того чтобы следующее поколение с большим умением обходило острые углы, о которых распарывали брюхо их отцы им в науку. Верещагину странно было слышать, что мужчина хвастается женщиной способностью хорошо отпечатывать чужие снимки.
У вас, наверное, нет времени самому заниматься творческими поисками», – попытался он найти фотографу оправдание, но тот, оказывается, нисколько не тяготился бесталанностью и не ухватился за брошенный Верещагиным спасательный круг. «Времени у меня хоть отбавляй, – ответил он. – Просто ни к чему мне это. Не люблю и чего-то там искать. Я люблю уметь. Я – мастер».
Верещагин удивился еще больше. Он так и вышел на фотографии – с удивленно расширенными глазами и растерянной улыбкой человека, который слегка и неожиданно ушибся.
Он прожил в Порелово больше двадцати лет. Сначала он развлекался и тосковал, потом злился, отчаивался, скрипел зубами, лез на стенку и бился об нее головой; был случай, когда, воя, он сбежал по лестнице и соседи выскакивали из квартир, чтоб спросить друг у друга, что за звук, не война ли и сирена? – здесь его обманывали и унижали, смеялись над ним, пытались выжить и выжили-таки наконец, здесь у него впервые задрожали кончики пальцев, разладился сон, именно отсюда он попал на Прекрасную Планету, где чуть не погиб в раскаленных песках, здесь он неоднократно был охвачен умопомрачительным страхом смерти, потерял веру в себя, резал собственное тело, плакал ночами от любви, обернувшейся ложью, но, что бы с ним ни случалось, – каждое утро, появляясь в институтской проходной, он протягивал вахтеру пропуск с фотографией, на которой улыбался растерянно и удивленно, будто ушибся только слегка.
27
И в самом деле: чем больше человек ищет, тем меньше у него умения. Потому что умение требует усидчивости и однообразия, оно приходит только к тем, кто долго, не оглядываясь, занимается одним и тем же делом.
28
Все, что я говорил выше о мастерах и других, не совсем верно.
Люди делятся на умеющих ставить задачи и на тех, кто умеет их решать. На сочиняющих приказ и исполняющих его. На Творцов и Мастеров. Другие здесь ни при чем. Творцы и Мастера – вот из кого состоит человечество. И у каждого своя гордость.
У одних – компас, у других – ноги в сапогах. Одни указывают путь, другие – идут. Одни рисуют фанерному человечку кружок под сердцем, другие всаживают в него пулю. У каждого своя гордость.
Но Мастера – счастливей. У них твердая рука, а стрелка компаса всегда дрожит в сомнении. Мастера не бегают, взбудораженные, по квартире ночами и не лежат, обессиленные, по утрам в постели, не смотрят в потолок тоскливым взглядом. Они бодро вскакивают и, едва надев рубашку, тотчас же засучают у нее рукава.
Каждая женщина мечтает родить Мастера. Потому что она хочет своему сыну счастья.
29
А вот и притча!
Строго говоря, это просто забавная история, вычитанная мною в журнале, который мне привезли из Парижа. Французским я не владею, однако большого значения это не имеет: если читать медленно и после каждого слова задумываться, можно понять любой язык.
В этом журнале рассказывалось об одном средневековом палаче, который умел отсекать голову так ловко, что топор у него оставался сухим. Молниеносным движением он совершал казнь и торжествующе поднимал над плахой сверкающий, не обагренный кровью топор.
Толпа восхищенно рукоплескала умельцу. В народе о нем говорили: «Золотые руки у этого парня!» Шестнадцать деревень и один городок спорили за право называться его родиной.
Он не спрашивал, за какие преступления приговорен к смерти казненный им. Он даже не смотрел, куда укатилась голова. Одна была у него забота: оставить топор сухим и заслужить одобрение народа.
А подписавший приговор терзался в сомнениях, иногда даже плакал. Он боялся мести единомышленников казненного и особенно что скажут о нем потомки. Может, он не того приговорил и потомки заклеймят его словами: «Подлец! Убийца!» Он страшно переживал, думая об этом.