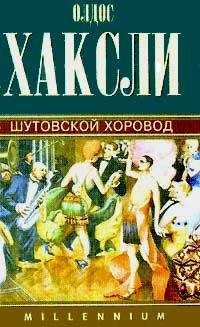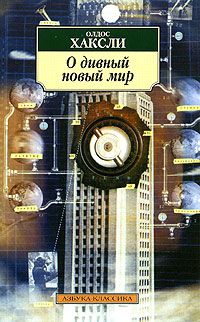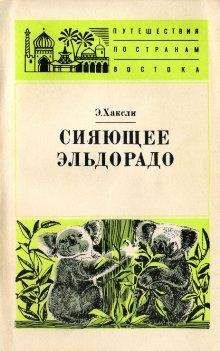Он приставил картину к ножке стола; руки у него освободились, и он снова мог расхаживать по комнате и потрясать своими конквистадорскими кулаками.
— Жизнь, — сказал он, — жизнь… вот великая, единственно подлинная реальность. Нужно насытить жизнью свои произведения, иначе грош им цена. Ажизнь возникает только из жизни, из страсти и чувства; из теорий ее не извлечешь. Вот почему так бессмысленна вся эта болтовня об искусстве для искусства, об эстетических эмоциях, о формальном мастерстве и так далее. Их теория учит, что все дело в формальных соотношениях, что одна тема так же хороша, как любая другая. Достаточно посмотреть на картины людишек, осуществляющих эту теорию, чтобы убедиться, какой все это вздор. Жизнь возникает из жизни. Нужно писать со страстью, а страсть сама заставит интеллект создать нужные формальные соотношения. А писать со страстью можно только то, к чему относишься страстно, — то, что трогает, то, что человечно. Никто, кроме разве пантеистического мистика вроде Ван Гога, не может относиться к скатертям, яблокам и бутылкам так же страстно, как к лицу любимой женщины, или к воскресению из мертвых, или к судьбам человека. Разве сумел бы Манте-нья создать свое изумительное искусство композиции, если бы он писал расставленные по столу фляги с кьянти и сыры вместо распятий, мучеников и триумфов великих людей? Только круглый идиот поверит этому. А я? Мог бы я написать этот портрет, если бы я не любил вас, если бы вы не убивали меня?
О, Бономелли и прославленный Чинцано!
— Со страстью я пишу страсть. Я извлекаю жизнь из жизни. И я желаю им находить радость в своих бутылках, и канадских яблоках, и грязных скатертях с гнусными складками, похожими на коровьи желудки, — Липиат снова распался на составные части в приступе смеха, потом замолк.
Миссис Вивиш кивнула, медленно и задумчиво.
— Пожалуй, вы правы, — сказала она. Да, он безусловно прав: должна быть жизнь; самое важное — это жизнь. Именно поэтому так плохи его картины — теперь она поняла; в них нет жизни.
Шума сколько угодно, и жестов, и неистовых дерганий гальванизированного трупа; но жизни нет — только показные, театральные претензии на нее. В акведуке есть трещина; где-то на полдороге между человеком и его творчеством жизнь вытекает наружу. Он слишком горячо оправдывается. Но это бессмысленно: мертвечину не скроешь. Ее портрет — это пляшущая мумия. Теперь Липиат наскучил ей. Может быть, она даже положительно не любит его? Этот вопрос возникал где-то в глубине, позади неменяющегося взгляда бледных глаз миссис Вивиш. Во всяком случае, подумала она, вовсе не обязательно любить всех тех, с кем имеешь дело. Есть интимный будуар, но есть и мюзик-холл; одних людей мы приглашаем на чашку чая и на tete-a-tete, а другие, исполнив свой номер, песенку или танец на сцене, которой сами они, бедняги! не замечают, доставив нам развлечение, уходят, получив свою награду в виде аплодисментов. Ну, а если они становятся скучными?
— Пожалуй, — сказал наконец Липиат, который все это время стоял неподвижно, кусая ногти, — пора начинать сеанс. — Он поднял с пола неоконченный портрет и поставил его на мольберт. — Я потратил впустую массу времени, — сказал он, а его, в конце концов, не так уж много, чтобы тратить зря. — Тон у него был угрюмый, и вся его фигура вдруг стала какой-то сморщенной, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. — Его не так уж много, — повторил он и вздохнул. — Я, видите ли, все еще считаю себя молодым человеком, молодым и многообещающим. Казимир Липиат — какое молодое, многообещающее имя, не правда ли? Но я уже не молод, я вышел из того возраста, когда подают надежды. Иногда я понимаю это, и тогда мне делается больно и тяжело.
Миссис Вивиш взошла на помост и села на стоявший там стул.
— Так? — спросила она.
Липиат взглянул сначала на нее, потом на портрет. Ее красота, его страсть — неужели они сочетаются только на холсте? Ее любовником был Оппс. Время шло; он чувствовал усталость.
— Так хорошо, — сказал он и начал писать. — Сколько вам лет? — спросил он через минуту.
— Что-то вроде двадцати пяти, — сказала миссис Вивиш.
— Двадцать пять? Боже милосердный, почти пятнадцать лет прошло с тех пор, как мне было двадцать пять. Пятнадцать лет борьбы. Господи, как я порой ненавижу людей! Всех и каждого. И не столько за их враждебное отношение: тут я могу платить им той же монетой. Меня возмущает их молчание и равнодушие, их способность делаться глухими. Я хочу что-то сказать им, что-то важное и существенное. И я говорю об этом вот уж пятнадцать лет, я кричу об этом во всю глотку. А они не обращают внимания. Я приношу им на блюде свою голову и свое сердце. А они даже не замечают их. Иногда я спрашиваю себя, надолго ли меня хватит при таком положении. — Теперь он говорил очень тихо, его голос дрожал. — Мне ведь почти сорок, знаете… — Голос стал хриплым и замолк окончательно. Он принялся смешивать краски на палитре — медленно, точно это занятие отнимало у него все силы.
Миссис Вивиш смотрела на него. Да, он не молод: в эту минуту он выглядел даже старше своих лет. Перед ней стоял старик, осунувшийся, исхудалый, потрепанный. Он неудачник, он несчастен. Но мир был бы менее справедлив, менее разборчив, если бы наградил его успехом.
— Есть люди, которые в вас верят, — сказала она; больше ей нечего было сказать.
Липиат поднял глаза от работы.
— Вы? — спросил он.
Миссис Вивиш кивнула, преднамеренно. Это была ложь. Но можно ли говорить правду?
— И есть еще будущее, — подбодрила она его, и в ее умирающем голосе звучала пророческая убежденность. — Вам еще нет сорока; перед вами двадцать, тридцать лет работы. Другим ведь тоже приходилось ждать, иногда очень долго; а некоторые заслуживали признания только после смерти. Великие люди, Блейк, например… — Ей вдруг стало ужасно стыдно: то, что она говорила, было слишком похоже на разговоры по душам доктора Фрэнка Крэйна. Но ей стало еще более стыдно, когда она увидела, что Казимир расплакался и что слезы медленно катятся по его щекам.
Он отложил палитру, он поднялся на помост, он встал на колени перед Майрой. Он сжал ее руку и склонился над ней, то прижимая ее ко лбу, точно рука эта была талисманом против мрачных мыслей, то целуя ее; а потом рука стала влажной от слез. Он плакал почти беззвучно.
— Ничего, — повторяла миссис Вивиш, — ничего, — и, положив свою другую руку на его склоненную голову, она стала поглаживать ее, как гладят голову большого пса, который подошел и ткнулся мордой вам в колени. Но, поглаживая, она чувствовала, что ее жесту не хватает интимности, что он лишен смысла. Если бы Казимир ей нравился, она стала бы перебирать пальцами его волосы; но почему-то его волосы внушали ей отвращение. — Ничего, ничего. — Но на самом деле было вовсе не ничего: он стоял перед ней на коленях, она утешала его, внутренне не имея на это никакого права, потому что вся эта сцена и все его страдания были ей совершенно безразличны.