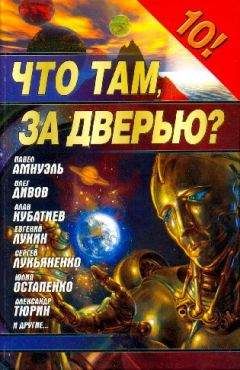Рыжеволосый человек поднял на него внимательный взгляд.
— Успокойся, Андрей, — сказал он. — Это предопределено, люди уходят, а народ пребывает в вечности.
— А я не хочу уходить! Не время еще уходить, — возразил крепыш. — И потом, если уходят люди, не значит ли это, что скудеет народ, который эти люди составляют? Что останется от народа, если станут сжигать на кострах его представителей?
— В нашей ситуации можно сделать лишь одно, — мягко возразил собеседник. — Мы должны молиться и верить в небесную справедливость.
— Мы должны запасаться ножами и заточками, — возразил черноволосый противник непротивления злу. — Если каждый из нас унесет с собой жизнь врага, то наступит время, когда и им будет несладко. А главное — надо думать, как бежать отсюда!
Азеф подмечал многое. Андрей Дитрикс и Симон Ленц, евреи из Мюнхена, сделали нечто вроде заточенных пик и самодельное оружие свое прятали в тайнике, сделанном в туалете. Левий Бенцион использовал время для изучения территории лагеря и прикидывал, нельзя ли сделать подкоп для побега. Иаков Алферн собирался умереть не в одиночку, он надеялся прихватить с собой в ад кого-нибудь из немцев, все равно кого, лишь бы оказался поближе к нему в день казни.
Азеф добросовестно докладывал фон Пилладу о своих наблюдениях. К его удивлению, фон Пиллада не интересовало оружие, подкопу и мыслям о побеге он вообще не уделил внимания, как и желанию Алферна уйти из жизни не одному. Более внимательно он выслушивал то, что Азеф рассказывал о проповеднике из барака. Он заставлял Евно вспоминать детали, дословно воспроизводить сказанное и даже записывал все это на странный громоздкий аппарат с двумя катушками, на которых вращалась тонкая коричневая лента.
— Странно, — сказал Азеф, когда они в очередной раз закончили свою работу. — Вы обращаете внимание на смиренного дурака и совсем не опасаетесь тех, кто может представить реальную угрозу.
Фон Пиллад засмеялся, убирая в шкаф свой громоздкий записывающий агрегат.
— В этом мы не одиноки, — сказал он. — Нам есть с кого брать пример!
Он наклонился за столом, роясь в его тумбе, и выпрямился,‘держа в руках человеческий череп.
— Знаешь, чей это череп?
Азеф равнодушно посмотрел на человеческий череп в руках штурмфюрера. Когда-то высокая лобная кость черепа скрывала человеческий мозг, в котором бушевали страсти, любовные устремления и ненависть, радости, боли и несомненные обиды. Обиды прошли. Осталась бело-розовая, еще не пожелтевшая от времени кость, темные впадины на месте бывших глаз сохраняли укоризненное выражение, отсутствующий нос навевал мысли о люэсе, а испорченные зубы черепа напоминали о том, что человек жил бурной жизнью, полной излишеств и столкновений.
— А какая разница? — спросил он.
— Действительно. — Фон Пиллад аккуратно поставил череп на стол.
Сев на свой стул, он некоторое время вглядывался в пустые глазницы.
— Разницы нет, но я скажу, что этот человек был первым посетителем нашего исправительно-трудового лагеря. Его звали Адам Лейбович, не знал такого?
— Не знал, — сказал Азеф. — А вы коллекционируете черепа?
— Разве я похож на некрофила? — удивился фон Пиллад. — Нет, я не собираю черепов, но этому… Этому предстоит особенная судьба. Ведь он некто вроде прародителя.
Азеф поднял глаза на немца.
— Ты знаешь, Раскин, у человечества особое отношение к черепам, — сказал фон Пиллад. — Кажется, это у
вас в России из черепов побежденных князей делали чаши для вина? Украшали их золотом и драгоценными камнями, и это считалось… как это будет по-русски?
— Откуда мне знать? — Огонек интереса в глазах Азефа вновь погас. — Мне не доводилось пить из черепов.
Фон Пиллад погрозил пальцем.
— Раскин умаляет себя, — сказал он. — Конечно, ты не русский князь, но и в жизни Азефа были торжественные дни.
Азеф покачал головой.
— А вы знаете, что в свое время могилу Николая Васильевича Гоголя разрыли для того, чтобы забрать его череп? — криво улыбаясь, спросил он.
— Гоголь? — Немец недоуменно вздернул глаза. — Я не понял. Гоголь есть русская птица, так?
— Это для вас Гоголь — птица, — вздохнул Азеф. — А для тех, кто жил в России, Гоголь — великий русский писатель.
— О-о, Гоголь! — Немец радостно закивал головой. — Нотш перед Рождеством! Да, я знаю, знаю, доцент Беккер рассказывал нам об этом мистическом авторе России. Но он умер давно?
— Да. — Азеф жадно смотрел в окно. — Господин шар-фюрер, для чего вы заставили меня работать на вас? Неужели для того, чтобы я рассказывал вам о мелких грехах заключенных, которых вы вскоре ликвидируете?
— Ты — молодец, — сообщил штурмфюрер. — Ты смотришь в корень, Раскин. А у тебя не возникает мыслей по поводу того, для чего ты нужен? В конце концов, не из-за каждого расстреливают без суда и следствия немецкого солдата, вся вина которого заключалась в том, что он дал волю чувствам!
— Я теряюсь в догадках, господин штурмфюрер, — сказал Азеф.
— Прекрасно! — воскликнул фон Пиллад. — Догадки позволяют совершенствовать свой разум. Хотя современная наука не считает еврея мыслящим существом, мне кажется, что на тебя наложила свой отпечаток Россия.
Продолжай ломать голову дальше. В мире нет ничего необъяснимого, он материален, а потому рано или поздно, но все разъяснится. Мне хочется, чтобы ты нашел ответ сам. Твой выбор должен быть осознанным. Скажи, Раскин, какое качество своей натуры ты считаешь основополагающим? Какой краеугольный камень заложен в основание твоей души?
Хороший вопрос задал штурмфюрер.
Что было главным в характере Азефа? Природная изворотливость?
Ненависть к той и другой стороне человека, стоящего на терминаторе — сумеречной полоске между добром и злом? Удивительное дело, но понятия добра и зла менялись в зависимости от взгляда, которого придерживалась исповедующая эти понятия сторона. Проповедуя терроризм, эсэры резко выступали против применения смертной казни к пойманным революционерам. Царские сатрапы, проводя подлую политику в отношении своего народа, были против того, чтобы народ в них за это стрелял и метал бомбы. Человек, оказавшийся в терминаторе, противостоял и тем, и другим. Проводя теракты, он мстил одной стороне, выдавая участников терактов, поступал не менее справедливо по отношению к другой. Может быть, главным была именно обособленность позиции? Или главным было то, что он относился к происходящему, как к игре? По сути своей человеческая жизнь напоминает театр, в котором каждый играет предопределенную ему роль. Понятия этики и морали условны, они зависят от ценностей, которым поклоняется общество. Именно поэтому Азеф не воспринимал тех, кто считал стыд вечной категорией, существующей в мире независимо от природы. Мир блефовал, у него на руках была слабая карта. Почему должен был открывать карты Азеф?