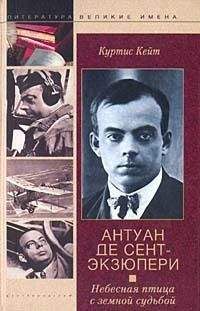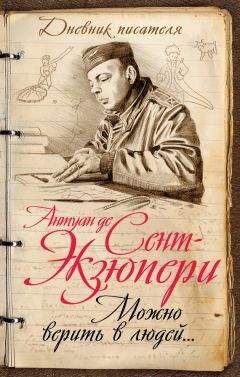— Ты ему поползать дай, — предложил Стефан.
— Он не хочет ползать, — возразила Маргарет.
— Тогда погремушку.
— Ты поаккуратнее с трубочкой, она у нас последняя. Дай-ка ее сюда… Не нужны ему ни погремушки, ни кубики, то-то и оно. Не интересуется. Я иногда думаю, сколько ему на самом деле: три месяца или…
— Старая больная тема, — улыбнулся Стефан. — В тринадцать тебе положено гонять в футбол, дерзить учителю, драться за углом школы и тайком смотреть порно. Это мы проходили. А если тебе за пятьдесят, ты должен выглядеть респектабельно, читать солидные газеты, нянчиться с внуками, коли они есть, и дважды в неделю играть в теннис. Вот только никто не знает, что делать, если тебе тринадцать и пятьдесят три одновременно.
— Ты знаешь, — тихо сказала Маргарет.
— Ничего я не знаю!
— Ну вот, наконец-то сам признался. Хорошо, что Джекоб кричит, никто нас не услышит… От нашей серьезности иногда тошнит. И от легкомыслия тоже. Кто мы: дети, играющие во взрослых, или взрослые, играющие в детей? Если бы мы столкнулись просто с гипофизарной карликовостью, я бы знала, что делать. А так? Мне еще предстоит стать педиатром-геронтологом. А ты когда-нибудь задумывался о том, что с нами будет? Через десять лет, через тридцать. От тебя ведь этого ждут…
— У нас общество, — сказал Стефан. — Плохое или хорошее, но общество. Это главное.
— Ты просто не хочешь об этом думать, — возразила Маргарет. — Представляешь, что будет, если за нами все же прилетят? Им же станет неловко за нас. А нам будет стыдно.
— Мне не будет стыдно. Мы сохранили себя. Нас двадцать семь. За сорок лет всего два несчастных случая и одна саркома. Это не моя вина! Мы сделали все, что могли. Мы строили!
Маргарет покачала головой.
— А хотят ли они этого? Ты их спросил? Большинство стремится просто жить, а не строить, да к тому же по чужому проекту. Поэтому тебя ненавидят, а ты боишься Питера… И это естественно. Он же сильнее тебя.
— Я не боюсь! Я капитан!
Против воли сжались кулаки, кровь прихлынула к лицу. Наказать! Лишить! В медотсек под замок, в карцер! На торф! Если бы только это был кто-то другой, не Маргарет…
Он очнулся от того, что прохладная ладонь легла на разгоряченный лоб. Маргарет, придвинувшись, гладила его, шептала: «Успокойся, ну успокойся, пожалуйста, ты капитан, ты…», она еще что-то говорила, но Стефан улавливал лишь интонацию ее голоса. Они были почти одного роста. Маргарет стояла совсем рядом. Ему вдруг захотелось обнять ее, и тут же как назло нахлынуло воспоминание о давнем, неудачном и стыдном, а Маргарет, что-то почувствовав, отстранилась и стала чужой. Джекоб орал. «Почему, ну почему, — с тоской подумал Стефан. — За что? Ни одному взрослому не понять, каково это — оставаться ребенком всю долгую жизнь… будто замаринованный в грибе червяк; срок хранения не вечный, но очень большой. Будь мы половозрелыми особями четырнадцати лет, нас давно бы не стало, этому есть обоснование. Интересно, а как с этим у других? Не знаю, не бегал я за ними по кустам, а, наверно, следовало…»
— Ты в порядке? — озабоченно спросила Маргарет.
— Да. — Голос Стефана стал хриплым. Он откашлялся в кулак. — Ты не беспокойся, я в форме. Понимаешь, накипело… Только что говорил с одним — убить хотелось. Испугался даже.
— Примешь успокоительное? Массаж, гипноз?
Стефан помотал головой.
— Не надо.
— А знаешь, я их понимаю, — сказала Маргарет. — Тоже ведь вкалываю как каторжная: то зубы лечить, то простуды, то ногу себе рассадят драгой… И Джекоб на мне, и Абби, а за ней все убирать надо, как за маленькой. Вчера в волосы мне вцепилась. Ты не подумай, я не жалуюсь. А только вечером валишься спать и выть хочется: когда же все это кончится…
— Еще не скоро.
— А вдруг Питер вернется сегодня? Ты в себе уверен?
— Ничего у него не выйдет, — сказал Стефан. — Сегодня праздник. Пирожные, фейерверк и все такое. Им будет не до того.
— Политика карнавалов, — понимающе присвистнула Маргарет. — А знаешь, это уже было, не то у Борджиа, не то у Медичи. Испытанный прием всех прогнивших режимов.
— Что-о?
— Нет-нет, ты не сердись. Я ведь не насмехаюсь, я одобряю. Это ты хорошо придумал. Боюсь только, что поздно.
— В самый раз.
— Разве? По-моему, ты уже отбыл три или четыре своих срока. В маленьком обществе естественные процессы должны идти быстрее, чем в большом.
— Вот только социолога мне здесь не хватало!
— А может, и вправду не хватало? — спросила Маргарет.
Стефан прищурился.
— Что-то я не пойму: чего ты от меня ждешь?
— Не знаю, — призналась Маргарет. — А если бы знала, что делать, была бы капитаном. Вот так.
— Да ну?
— Ладно, пусть не капитаном… А только я вот что думаю: либо власть творит насилие сама, либо своим бездействием допускает, чтобы его творили другие. Разве когда-нибудь было иначе? Я хочу, чтобы ты помнил это и никогда не забывал. Ради меня, ради нас всех, ради вот Джекоба…
Джекоб охрип. Все было бесполезно, все зря, напрасный труд. Его крик не дошел до ума великанов, как не дошло и предупреждение об опасности. Трудно разговаривать с глухими от рождения, выросшими среди себе подобных. Они так ничего и не поняли, и Джекоб, задыхаясь от безнадежности, оставил дальнейшие попытки.
Ему было очень жаль себя.
Ветер дул в борт, так что Питеру приходилось подруливать веслом, в то время как Вера пыталась приноровить парус к капризным порывам. Заплатанный кливер полоскало. Ветер еще срывался шкваликами с дальних мысов, морщил гармошкой темную воду, но уже заметно стихал, сдавался. Небо, как в насмешку, было голубое, глубокое, как озеро, а бело-желтое солнце, пройдя зенит и примериваясь к спуску, врало о мире и спокойствии. Второй час лодка шла под парусом. Западный берег отдалился и потускнел, поглотил острова, вызубрился щеточкой леса на холмах, а восточный, плоский, увенчанный черной башней корабля, как будто ничуть не приблизился, словно был не берегом, а насмехающимся миражом. Зрение обманывало. Лодка двигалась еле-еле, но с завидным упорством.
Перед последним броском через озеро они причалили к оконечности гранитного мыса. Питер не позволил отдыхать больше пяти минут. Вера повалилась на камень. Йорис принялся скулить от усталости, а когда его успокоили тем, что грести больше не придется, начал ныть, что хочется есть. Питер побродил у воды, лижущей серые камни, но сосулек тут не было.
Его немного мутило, от голода кружилась голова, и сердце временами принималось стучать как сумасшедшее. Ничего… Уже скоро. В лагере этот хлюпик забудет о своем позоре, начнет пространно и снисходительно отвечать на вопросы и вовсю распавлинит перья — грудь колесом, хвост зенитной пушкой. Достаточно не напоминать о его нытье — и он по гроб жизни будет благодарен тому, кто впервые дал ему почувствовать себя мужчиной, а не штатной единицей в хозяйстве Стефана…