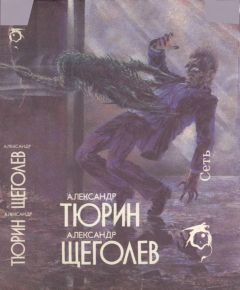– А, зачэм долго гаварыт? Слушай слово хана, Мансур: сабак ты, гразный сабак! язык свой забыл, Аллаха забыл, пыредков забыл… тьфу!..
Скривился, сделавшись похож лицом на печеное яблоко.
– Нэт угавора! Кырым вам конницу давал? Давал… гдэ пабэ-да? Адын, два, тры тыщ джигит к Аллаху ушлы! – гдэ пабэда?.. Шайтан-дэло – на цар встат… В Кырым – хан, в Русистан – цар, нэт? Иды, Мансур, иды… нэт угавора!
Потер руки, меленько рассмеявшись.
– Вэрховный твой – пхе! пайды, скажы: Кырым нэ знай ныкакой Вэрховный… наш гасудар – султан Порты,[101] хункяр[102] и падышах… вот так скажы!
Визирь говорил все визгливей, перхая и плюясь. И, сбитый поначалу с толку, Кирилл понял, что пришло время огреть камчой, чтобы помнил пес, кто хозяин.
– Великий хан! – хоть и знал, что слова единого не поймет азиат, обратился к возвышенью, намеренно презрев визиря. – Предательство не красит властелина. Ханство свое получил ты из рук Республики Российской и верностию ей обязан…
Остановился, дабы утяжелить намек. Вымолвил веско:
– Если же мнишь для себя пользу иметь; врагу России предавшись, вспомни: достаточно в Крыму войск, дабы мятеж ордынский на корню пресечь. Всему воинству твоему хватит столкнуться и с гарнизоном севастопольским…
– Ай, Мансур, Мансур… глупый твой башка! – уже откровенно смеется визирь; изо рта брызжут капельки слюны. – За-чэм грозыш? У Кырым сытрах нэт; Аллах укрэпыт, султан па-можэт… слыхал, продавший вэру, такое слово: газават,[103] а?
Отошел, уселся на ковер, скрестив ноги, мигнул снизу вверх хану; тот кивнул торопливо. На плечо поручику легла тяжелая ладонь сейменского аги.
– Ходы, свыня…
…Вечером сквозь решетку крохотного оконца увидел Кирилл Мансуров ровную кучку голов посреди дворика, у фонтана. Без ужаса, отстраненно, узнал: гусары, вахмистр, писарьки из миссии. Подумал: вот и смерть.
И ошибся. Далеко еще было до смерти; впереди, вскорости, трюм корабельный, и Стамбул, куда привезут его бакшишем[104] ханским султану, и замок Семибашенный: долгие восемь лет без света, на мокрой соломе, с крысами в обнимку… а затем, по замиренью императора с султаном, выдача, суд военный и лютая стужа акатуйская. И уж потом – смерть.
Всего этого не ведал пока.
Как не знал и того, что в этот самый день, утром еще, янычары высадились в Керчи и на Арабате, сбив заслоны, что орда татарская, хлынув с Яйлы, окружила полумесяцем Севастополь – и гарнизон фортеции, в ответ ультиматуму, изготовился к обороне.
Именем Империи Российской и Государя…
У «Оттона» гуляли – шумно, враздрызг, с боем посуды; не утихало целыми днями, а в последнее время, как сгинули куда-то патрули греков-гетеристов, пошло и по ночам. Цены взбесились; ассигнаты Республики рухнули в грязь – расплачивались золотом и британскими пашпортами; на худой конец, шло и платье. Некому было разогнать шваль, да и редкие попытки урезонить кончались мордобоем: терять нечего! фронт почти лопнул, Дибич со дня на день войдет в Одессу – вот и торопились догуливать, чтоб в Сибири было о чем вспомнить.
Смешалось все: офицеры, солдатня, канцелярские крысы, контрабандисты, цыгане, арнаутские головорезы – было бы на что, а ежели на мели, иди на улицу, разживись… Мещане уж и носы не высовывали с темнотою, и все равно: что ни вечер – визг, а наутро из разбитых дверей крючьями вытягивают зарезанных не за кошелек даже, за сюртук либо салоп поновее.
Славно гудели, от всей души. Но корнет, тесно вжавшийся в темный угол напротив входа, не слышал криков; одна лишь мысль: не пропустить! Твердо решил: если и сегодня не отважусь, застрелюсь. Глядел, не отрывая взгляда от ярких дверных стекол, вытягивал шею, когда с гиканьем вываливалась пьяная гурьба, волоча полуодетых девиц, аж через улицу пахнущих шампанским.
И углядел! Кинулся, не чуя ног под собою, махом перелетел дорогу, телом преградил путь.
– Мадемуазель! молю… два слова!
И страх лютый, сердце разрывающий: вот, сейчас… полыхнут гневом дивные очи! изогнется бровь строго: что вы себе позволяете? и пройдет, сгинет навеки, и ничего уж более не будет, никогда, никогда не будет…
Пал на колени, глядя, словно на икону.
– Дивная!.. простите вольность мою… единый вечер оставлен мне для встречи… не откажите!.. завтра на позиции…
Не думал, каков в ее глазах; она же, посмотрев, оценила сразу всего: серый мундир с корнетской лычкой, разномастные пуговицы, ясные, широко распахнутые глаза; прикинула: не более шестнадцати…
Господи! какой букет! розы темного пурпура… где ж добыл такие в апреле?.. у греков разве… но какова ж цена?!
– Богиня! примите… знаю, ничтожны для вас цветы, но – осчастливьте, молю…
Сам смелостью своей воспламенялся; и вот уж – о, счастие! – ведет Ее к себе («не смейте и думать, Дивная, о худом… честью клянусь, одного лишь жажду: видеть вас, наслаждаться беседою с вами…») и не лжет, не лжет! страшно и подумать о прикосновенье к неземному… увидел Ее третьего дня, мельком, из окна лазаретного – и вспомнить после не смог, лишь одно вставало пред взором внутренним: ясное, будто зорька в имении, столь радостное, что от одного лишь сознанья – ВИДЕЛ! – легче становится жить; а еще – локоны, небрежно выбившиеся из-под капора, светлые-светлые завитки да профиль точеный… и вот – увидел на улице: шла через весеннюю грязь, словно паря над нею, будто и не касаясь земли… до самого «Оттона» проводил; что Ей там? Не посмел ни войти следом, ни после подбежать, когда вышла… никак невозможно, не представлены, да и вел Ее под руку поручик-фат, она же была печальна и дика, словно отвергая сию фривольность самим видом своим…
Кто он Ей? Муж ли, брат, возлюбленный? во сне убил в поединке ненавистного противника, на следующий же день – опрометью к «Оттону», будто на дежурство – и увидел, на сей раз одну, и вновь грустную, словно бы даже в слезах; фат оскорбил Ее! – подумалось с ненавистью, но и с удовлетвореньем; подойти – и она моя! – но не посмел, а послезавтра уж на позиции… нога залечена… – и осмелился, наконец! и вот она рядом со мною, и впереди ночь, и я изъясню ей все чувства свои; откажет ждать? пусть! тогда – в бой, и умру счастливым, ибо говорил с Нею…
Вот уж и крыльцо…
– Присядьте, мадемуазель… извините беспорядок сей кельи… – бормотал что-то совсем уж невпопад, суетливо прибираясь, не отводя глаз от Нее, уже скинувшей накидку, уже сидящей на оттоманке, – присядьте… угодно ль вина немного?
Не увидел, почувствовал улыбку, знак согласья. Откупорил бутылку; сего добра довольно – однополчане изрядно снабдили империалами,[105] дабы закупил в Одессе.