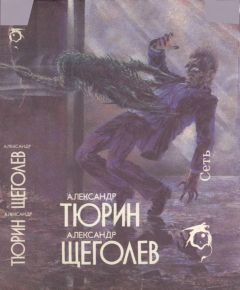– За вас, Дивная, за вас, светом Авроры восходной дни мои суетные озарившую… – лихорадочно отыскивая слова, никак не мог найти значительных, умных, пристойных случаю; потому безбожно пересказывал речи из книжицы маменькиной о Поле с Вирджинией, опасаясь одного лишь: как бы не поняла, что не свои слова говорит. И ощущал во всем теле мерзейшую дрожь, словно бы каждая клеточка тряслась.
Так же молча приподняла бокал, пригубила.
Щегольски отряхнув (подсмотрел у капитана Быкова!) опустошенный фужер, корнет ощутил теплое прикосновенье к сердцу, изнутри. Дрожи стало поменее, и руки вроде окрепли; впервые осушил так вот, до дна, ранее, по чести сказать, не доводилось – маменька заповедала…
– Позвольте еще?
Кивнула. О, богиня! безмолвна, загадочна…
– Сколько лет вам, дружок?
О, какой голос, словно звон хрустальный, словно два фужера столкнулись…
– Богиня, позвольте еще фужер? Мерси…
– Но сколько все же?
– Семнадцать…
Ничто не дрожит более; корнет блаженно улыбается, любуясь нежным ликом, но отводя все же глаза, чтоб не оскорбить нескромным взглядом.
– Как странно, мне показалось – не более шестнадцати. Вы еще совсем мальчик…
– Я не мальчик!
Вскинулся обиженно: ах, вы так? – так вот же вам! – не спросясь, осушил еще бокал.
– Я корнет Республики Российской… и я влюблен! в вас! я очарован! не смейте не верить мне…
Отчего казалось страшным вымолвить заветное? – вовсе не страшно… вот только еще немного вина, совсем немного… Богиня, я буду убит! я знаю наверное, что жизнь моя кончена, но вы подарили мне счастье… и мы уедем с вами в именье, к маменьке… впрочем, отчего именье? я буду убит! и революция помянет меня на победном пиру…
Совсем близки Ее глаза, словно небо опрокинулось вдруг и пролилось без остатка в дешевый нумер… о мой кумир! нас мало, очень мало, но мы сразимся с деспотизмом, Дибичу не одолеть… ваше здоровье!.. маменька будет весьма, весьма… а обещанье мое Вареньке утратило силу, не сердитесь, Дивная, то было детство… лишь вам верю без остатка, весь ваш, и, хотя молод, прошу руки… нет, я не мальчик!.. а вы скверная, зачем с поручиком шли?.. гадкая, гадкая, обожаю… ах, сколько грязи вокруг…
Все вертится, идет хороводом перед глазами; где вы, любимая? ах, как тепла ваша рука… позвольте коснуться губами… нет! не гневайтесь, я не… о, благодарю вас… вы совершенство, а все вокруг изменники и враги, только капитан Быков орел… видели бы вы, как он пьет из двух бу… простите, это – за Конституцию! но следующая вновь только за вас… я представлю вас Быкову своею супругой и маммменька будет тоже рада… а клюква у нас отменная, и мы с Варенькою пойдем в лес… мы ведь возьмем Вареньку? она чудесная, чудесная… а Стаська Бобович оказался изменником, представляете, любимая? – Стаська! под одною шинелью с ним под Винницей, а он…
Нежные-нежные, прохладные губы чуть касаются горячего лба; тонкие пальцы невесомо пробегают по щекам…
– Каково имя ваше?.. впрочем, нет, не нужно… меня ведь убьют, я не хочу знать его, у богинь нет имен… а я Вад…ик! Вадим… о, милая, милая, милая… мы будем вместе до конца!.. ах, как славно мы умрем…
Все требовательнее тонкие руки, они проникают под сорочку (как? где ж мундир?), они гладят грудь, как некогда маменька… ма-менька-а-а!.. но что вы? как не стыдно?.. не надо, не нааа… а ласковые пальчики обвили уже всего, и никак не вырваться из объятий, но вот уже тело не хочет вырываться и покоряется душистому, светлому, оплетающему, втягивающему в себя – и все тает, уходит, гаснет в сумасшедше раскручивающейся сладкой круговерти…
И пришло утро.
Еще не раскрыв глаз, протянул несмело руку к стене – пусто! Вскинулся… Простыни смяты, сбились на пол; никого рядом… лишь на подушке – волос… длинный, светлый, шелковистый. И во всем теле играет незнакомая радостно-торжествующая сила; даже густая тяжесть в затылке отступает пред нею, неодолимой.
Бережно-бережно снял с подушки бесценную нить, поднес к губам. Была! была и пропала, дивная…
Коснулся шеи привычно – там, на цепочке, образок маменькин в окладе скверного золота; вплести реликвию! ведь найду же ее! и никогда уж не расстанемся. Ощупал недоверчиво шею, грудь, и еще раз – нет образка. И перстенька, Варюшей даренного, когда в полк убывал, тоже… скатился с пальца нешто?
Свесился растерянно с кровати, заглянул на пол пыльный: да где ж оно?
А на полу пустые бутылки, с полдюжины, да букет позабытый, смятый в метелку, да еще кошелек быковский – наизнанку вывернут, пустой совсем. И сапоги пропали…
Гадко, гадко, гадко!
Ни вина купить, ни на фронт пойти.
Плачет корнет…
* * *
«…и посему, полагая Долг Воинства Росского пред грядущими поколениями и Отечеством нашим исполненным с честью, а равно и сознавая ответственность перед Россией в годину опасности, Империей Оттоманской приуготовленной, – ПОВЕЛЕВАЮ:
– всем частям, кои войску Романова Николая сопротивление продолжают оказывать, сложив оружие и отойдя с позиций своих, поступать впредь по собственной воле и усмотренью, оставаясь в уверенности, что Отечество подвига их не забудет.
Первоприсутствующий Управы Военной Малороссийской и Новороссийской, Главнокомандующий Армией Республиканской и Верховный Правитель МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ».
* * *
С утра затворилась Лизанька в будуаре; рыдала, не отпирая никому, даже и супругу. И только услышав ясно, хоть и через двери, негромкий плач, Воронцов окончательно понял: вот и все. Пусто во дворце. Терзаясь всхлипыванием жены, спросил негромко: «Душа моя, золотко, прикажи, что сделать?» В ответ – то, что и ранее.
Ушел к себе; бродил по кабинету, размышляя. Со дня смещенья своего инсургентами хоть и не был уж губернатором Новой России, а города не покинул. Пусть и полагал сию революцию вздором, а интересно было: куда вывезет? Вывезло, куда и предполагал. Недаром на приглашение в Управу войти, еще с год тому, ответил, покачав головой: «Из нашей-то соломы да лепить хоромы? Увольте…»; после уж и не подходили.
Лизанька – иная; что ж! – полька, вольность в крови бурлит. А не понимает, что подлинная вольность не вино французское, пробки вышибающее, а британский эль, коему для вкуса отстояться надобно.
Посмеялся: вот уж и эль в пример беру. Впрочем, к Британии испытывал чувства трепетные с малолетства; батюшка приохотил. Все восхищало, даже и недостатки, к коим, к слову сказать, лишь надменность и относил. Но, признавая, оправдывал: кому ж, как не сынам Альбиона, надменными и быть?.. над всей Европой возвысились силою не меча, но закона. Думая о том, светло завидовал…
А Лизанька – что ж, дама, сердечко чувствительное. Жалеет Сергея Ивановича, не разумея, что решился уже Верховный и не отступит от принятого. (Сам я, – размышлял порою, – окажись на месте вождя инсуррекции, иначе б не поступил.) Просьбам жены слезным не смог, правда, не поддаться; испросив встречу, привел с собою в Белый кабинет некоего господина, казалось, из одних лишь рыжих бакенбард состоящего. Представил: «Прошу, Сергей Иванович, сие – my old friend,[106] капитан Дженкинс, чей клипер стоит ныне на рейде одесском. Одно лишь слово, и вы – матрос; море ничье, мир огромен, команда надежна! а Штаты Северо-Американские конституционеров не выдают…»; и бритт, разобрав кое-как, о чем речь, закивал согласно: «O, yes, yes!»