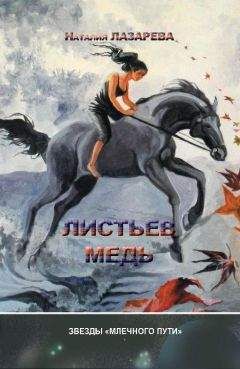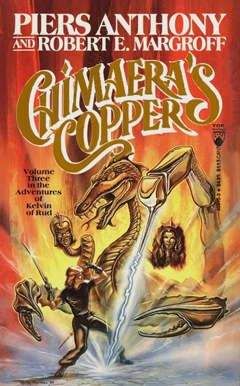56
Мимо Анпилогова проплывали бильярдные столы и подсвеченные изнутри бары, открывались любимые им эркеры, демонстрирующие вид на большую воду, с пристроенными в них мягкими диванами, многочисленные лестницы, отделанные мраморной плиткой. Он видел широкие, особо плотные спины соратников и коллег, столь необходимых ему сейчас для достижения цели.
Потому что там, в Гохране, под промасленным пергаментом, было нечто, куда следовало вкладывать деньги.
А спины вжимались в кресла, расставленные вокруг низких дубовых столов, и сновали всюду руки, охватившие овальные стаканы с темно-коричневой жидкостью. И, сдерживая на подступах к макушке идеальный газ, Леник понимал, что именно сейчас они решают, войти ли в анпилоговское сообщество или же примкнуть к другой партии. Давление в Барокамере менялось прямо на глазах, и Ленику уже начало казаться, что оно сейчас превысит все возможные пределы, и задуманное им предприятие взорвется и разлетится на мелкие куски.
Несмотря на бассейн, душ и коричневую жидкость на дне стакана, идеальный газ продолжал биться в голове Леника, и мог уже, наверное, достичь его макушки, поросшей серой порослью жестких волосков. Во всяком случае, возможность того, что Барокамера вот-вот разлетится на два конкретных куска, он осознавал достаточно хорошо. Вставал только вопрос времени. Если второй кусок под руководством небезызвестной Ульяны Викторовны с ее расхлябанными дипломниками сумеет получить вполне конкретные очертания в ближайшую неделю, то ему не удастся занять в ассоциации лидирующие позиции, ибо его первоначальный взнос окажется слишком низким. Помимо этого, именно сейчас было крайне опасно, что второй кусок оторвется вместе с наработанными и выстраданными технологиями, а в какой мере они известны раскольникам Анпилогов мог только догадываться.
Свои люди могли унести и общие секреты. Из своих людей, собственно оставались: Гера Фельдштейн, Пень, Майка Ферапонтова и Уля. Но именно Уля была не совсем своим человеком, ибо изначально именовалась лигокоисталльщицей – поэтому вряд ли будет до конца поддерживать внутреннее давление барокамеры. И именно Уля могла унести с собой те знания, которые никак нельзя было выпускать наружу.
Впрочем, эту проблему, как ему казалось, Леник уже начал решать, и следовало только увидеть результат.
Анпилогов с трудом заставил себя просидеть целый час в номере. Потом надел джинсы, удобную, уже грязноватую на животе и локтях куртку, фуражку с коротким козырьком – каскетку, надвинул низко на лоб, и вышел из Бака через складские помещения.
Время он рассчитал точно. Ему оставалось пройти по большому полю, отданному местным жителям под огороды, достичь круглого озера, где обычно купали лошадей, и проследить кое чей путь от озера до конюшни.
Только выйдя за территорию, Анпилогов ощутил резкую перемену. Дело было даже не в том, что исчезли ярко-зеленые ухоженные газоны и по обочинам дороги возникли августовские пропыленные растения – грязно-желтая пижма, мелкая ромашка, дырявые листья лопухов и острые клыки жесткой и стойкой осоки, но все вокруг изменило скорость. Окружающее тут же перестало нападать на него – как нападали зеркально чистые стекла эркеров, плотные спины предполагаемых членов ассоциации, крепкие пальцы, сжимавшие толстостенные стаканы, и – замедлилось.
Оказалось, что снаружи тепло, даже слегка припекает. Поля были разрезаны на мелкие, сотки в четыре, огороды, на которых кое-где соорудили сараи из ржавого железа или даже сложили из старых шпал небольшие домики. На общем уже жухло-желтом фоне здесь зеленели кусты смородины, выглядывали белые и беспардонно сиреневые флоксы, несли свою солнечную службу желтые зонты, уже полные семечек. Лежали обтрепанные махровые лисья, отдавшие свою силу и сочность нагло оранжевым тыквам. Почвы здесь были бедные – песок, но, судя по всему, землю все же натаскали в мешках и на тачках, а в неприметных углах, прикрытые старой клеенкой тлели кучи перегноя. Уже жгли картофельную ботву, шел серый с желтизной запах дыма. И даже оказался здесь звук – в одном из шпальных домиков или ржавых сараев играло радио. Анпилогов даже и представить себе не мог, что люди еще слушают эту старую унылую песню (как, впрочем, не мог себе представить, что в мире существуют заколки с глянцевым брюшком, как у кропотливой Серафимы). Но унылая песня благополучно сжилась со светлым песком дороги и придорожных канав, со смиренной и неряшливой красотой огородного поля и дымом от картофельной ботвы, Леник утерял свое биение в районе макушки, и шел уже совершенно бестелесный, спокойный, неряшливый и почти красивый. И совершенно забыл, зачем идет. Он впервые за годы Барокамеры перешел в другую жизнь, в которой и пребывал долгое время: время Явича, Климаши, Веруни…
Веруня ему отказала. Сначала немного полежала в больнице – причем попала туда по скорой и не велела ему платить. Потом вышла, долго еще лечилась – и «все было нельзя». А после… ну было немного, но все ей казалось не так, и боязно, и уставала. А дальше: «Иди, Леник, своей дорогой. У тебя пошли какие-то деньги, я уже не понимаю… Мне спокойнее одной».
Открылось озеро – блеклое и плоское, как окружающие поля. По мелководью, уже поблескивая после купания, брел огромный черный конь. Сидящая на нем женщина в мокром комбинезоне, босая, трепала его по шее. Конь, видимо, казался ей слишком понурым. Он действительно брел довольно медленно. Потом рука женщины взметнулась – рука, казавшаяся с такого расстояния магически удлиненной, протянулась к крупу коня – это наездница всего лишь дотронулась до шелковой блестящей кожи хлыстом.
Мальпост сорвался с места, вызвал в этом притихшем пространстве кратковременный мираж сияющих брызг – и полетел галопом навстречу Анпилогову. Конь приближался с большой скоростью, и Ленику уже хорошо было видно, что Ульяна не успела застегнуть шлем, а черный круглый набитый пробкой головной убор упал на песок. Волосы летели вслед за всадницей, как всегда, не сплошной темной полосой, а легкой наэлектризованной стаей… Леник только успел скатиться в кювет, как конь с орущей и раскачивающейся из стороны в сторону фигурой на нем, пронесся мимо. Потом, видимо, Ульяна сумела на некоторое время осадить коня, и издали было видно, как она неслась, пригнувшись, но ее голос, перекрывая унылую радиопередачу, продолжал заполнять дорогу и поля.
Итак, Анпилогов уже кое-что увидел. Он вылез из канавы и быстро направился к территории Бака. Подойдя, на пределе видимости, он снял куртку и каскетку, сунул их в сумку, висевшую на плече, и вошел через центральный вход.
И тут же к нему кинулся охранник, козырнул, шепнул что-то на ухо. Хозяин Бака вскинул брови, отцепил от ремня трубку, переговорил, сел в подруливший автомобиль, и через несколько минут уже вылетал из дверцы на подъезде к конюшне. Здесь скопились все, кто был в это время на Баке. Здоровенный служитель едва сдерживал огромного, черного, покрытого пеной коня, уволакивая его на огороженное пространство, возле вспученных залакированных пней лежала скрюченная женская фигурка. Анпилогов с силой отстранил подскочившую к нему медсестру, которая голосила: «Скорая едет, трогать ничего нельзя!» – и сел на колени возле лежавшей женщины. Лоб ее был в крови, влажные волосы казались особенно темными.