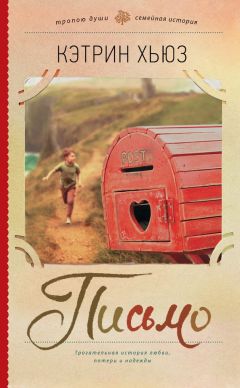Сестра Бенедикта не скрывала своего нетерпения.
— Это не может подождать?
— Боюсь, нет. Это займет буквально минуту.
Настоятельница вышла вместе с медсестрой в коридор и закрыла дверь. Заинтригованный Уильям подошел ближе и прижался ухом к деревянной двери. Женщины говорили полушепотом и быстро, но он мог разобрать, о чем шла речь.
— Сестра, я насчет Колетт. Я только что приняла роды, но она очень сильно порвалась, нужны швы.
— Ты знаешь правила, сестра. Никаких швов. Если она порвалась, значит, на то воля Божья. Она должна искупить свои грехи. Раньше нужно было думать, до того, как забрюхатеть.
— Сестра! Вы же знаете, ее изнасиловали.
— Это она так говорит. Она искусительница, сестра. Сама навлекла на себя беду. Довольно, хватит тратить мое время, у меня есть дела поважнее.
Дверь скрипнула, и Уильям в два прыжка вернулся на середину комнаты, стараясь принять как можно более непринужденный вид. Сестра Бенедикта окинула его хмурым взглядом и указала на стул:
— Садитесь.
Она заняла свое место напротив него и открыла папку. Нацепив на нос очки для чтения, она принялась листать документы. Уильям вытянул шею, пытаясь разглядеть содержимое папки, но через широкий стол ему удалось разобрать лишь номер: 40/65. Наконец сестра Бенедикта нашла то, что искала, и вытащила пожелтевший лист бумаги.
— Видите подпись внизу?
Уильям перегнулся через стол и увидел имя, написанное детским почерком: Броуна Скиннер. Он потянулся, чтобы взять письмо, но сестра Бенедикта отдернула руку, прежде чем он успел до него дотронуться.
— Ваша мать подписала документ, в котором отказалась от всех родительских прав с того дня, как вы покинули монастырь. В этом письме она поклялась, что никогда не будет пытаться связаться с вами, вмешиваться в вашу жизнь или предъявлять на вас какие-либо права в будущем. Мы не имеем права разглашать ее местонахождение, мистер Лейн, так что, боюсь, ваша поездка была напрасной. Теперь, если не возражаете, меня ждут дела.
Ее пренебрежительный тон отчетливо давал понять, что разговор окончен. Уильям встал и вскинул рюкзак на плечо. Он уже ненавидел эту женщину и с трудом подбирал слова.
— Я вернусь, сестра, даже не сомневайтесь.
— Как я уже сказала, вы зря теряете время.
Но Уильям не собирался отступать. Ничто, и уж точно не эта зловредная монашка, не помешает ему найти свою мать.
Уильям вновь очутился на проселочной дороге. Послеполуденное солнце начинало клониться к закату, а прохладный ветер напоминал, что было только начало апреля. Он натянул свитер и решительным шагом направился к автобусной остановке. Ему не терпелось как можно быстрее убраться из этого гадюшника, так что он прошел два с половиной километра меньше чем за двадцать минут. Снова взмокнув от быстрой ходьбы, он снял свитер и подошел к столбу с расписанием. Следующий автобус должен был прийти только через пятьдесят минут. Уильям чертыхнулся и опустился на траву. Он вдруг почувствовал, что страшно устал — длительный перелет, смена часовых поясов и противостояние с непреклонной сестрой Бенедиктой высосали из него все силы.
Подложив рюкзак под голову, он растянулся на траве, чувствуя вспотевшей спиной приятную прохладу. Он задремал и, казалось, проспал несколько часов, прежде чем его разбудило треньканье звонка. Солнце скрылось, и сквозь закрытые веки Уильям почувствовал, что все вокруг погрузилось в сумерки. Он приподнялся на локте и потер глаза. Солнце загораживала не туча, а человеческая фигура на велосипеде. Темный силуэт контрастно проступал в солнечных лучах, и лица было не разобрать, но по копне кудрявых волос он понял, что перед ним женщина.
— Надеюсь, я вас не напугала. Вы так крепко спали, что я решила позвонить.
Уильям с трудом поднялся на ноги. Поравнявшись с женщиной, он узнал в ней медсестру из монастыря.
— Нет-нет, я просто решил вздремнуть минут сорок, пока жду автобуса. Надеюсь, я его не проспал.
Он закатал рукав и посмотрел на часы. Он спал всего десять минут.
— Автобус ходит раз в час, в десять минут. Можете подождать здесь до пяти десяти, а можете проводить меня до дома и сесть на шесть десять. Это последний.
Уильям нахмурил брови.
— Проводить вас до дома? Почему, простите, я должен вас провожать?
— Потому что вы должны рассказать мне все, что знаете, если хотите, чтобы я помогла вам найти мать.
Грейс Квин проработала в монастыре всю жизнь, а точнее, тридцать шесть лет, и приняла несчетное количество младенцев. Сидя рядом с ней на ухабистом диване в цветочек, Уильям был заворожен ее мягким голосом и добрыми, глубоко посаженными серыми глазами, которые она время от времени поднимала к небу, рассказывая свою историю.
— Вы, должно быть, думаете, как я могу работать в таком жутком месте?
Уильям выразительно хмыкнул.
— Да уж, не сказать, что у них там сплошное веселье. А эта монашка! Это вообще что-то с чем-то.
Грейс всплеснула руками и положила их на колени.
— Знаю, некоторые их методы отличаются от общепринятых, а постороннему человеку и вовсе могут показаться жестокими, но этим девушкам больше некуда податься. Они навлекли на свои семьи такой позор, что его уже не смыть. Что за жизнь ждала бы вас, если бы вашей матери позволили вас оставить?
Уильям пожал плечами.
— Понятия не имею. Но в том-то и дело — если бы ей позволили. У нее ведь не было выбора, так? Я прожил с ней три года, а потом меня оторвали от нее и отправили в Америку. Не поймите меня неправильно, я люблю родителей, но мне это кажется очень жестоким.
Грейс опустила голову.
— Я знаю, потому и хочу вам помочь.
Она встала, порылась в письменном столе и вернулась с ручкой и бумагой.
— Ну, рассказывайте все, что знаете.
Уильям откашлялся.
— Мою мать зовут Броуна Скиннер, и я родился десятого апреля 1940 года.
Грейс подняла глаза от блокнота, не отрывая ручку от бумаги.
— Это все?
— Ах да. Ей было двадцать.
Грейс нахмурила лоб.
— Да уж, негусто.
Уильям вдруг вспомнил тоненькую коричневую папку, которую принесла сестра Бенедикта.
— Номер ее файла 40/65.
Грейс удивилась, услышав последнюю информацию.
— Да вы, я погляжу, настоящий сыщик! Это значит, вы были шестьдесят пятым ребенком, который родился в 1940 году.
Она записала цифры и несколько раз подчеркнула жирной линией, словно от этого информация становилась в разы важнее.
— Хорошо. Вы помните что-нибудь о своем детстве в монастыре? Что угодно, что могло бы помочь мне ее вспомнить?