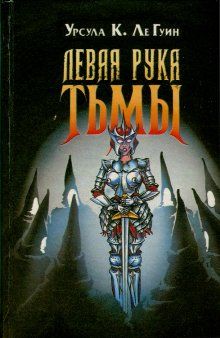Закончив все, мы заползали в тепло печи Чейба.
Чудесная вещь окружала нас — тепло.
Смерть и холод оставались снаружи. Мы ели и пили, потом разговаривали. В сильные холода даже великолепная изоляция палатки не помогала, и мы лежали в мешках как можно ближе к печи. В метель через вентиляционные отверстия в палатку набивался снег, и воздух внутри становился туманным. По ночам бури издавали странные звуки и не давали нам разговаривать, так что приходилось кричать.
В другие ночи было так тихо, что казалось, будто весь мир перестал существовать.
Через час после ужина Эстравен уменьшал нагрев печи, если это было возможно, и выключал свет. Делая это, он бормотал короткую строчку — единственное ритуальное заклинание, которое я услышал у жанндара: «Хвала тьме и несовершенному творению». И наступала тьма. Мы засыпали. Утром все начиналось сначала.
Так продолжалось свыше сорока дней.
Эстравен продолжал вести свой дневник, хотя на протяжении недели на льду он мог записать лишь погоду и пройденное за день расстояние. Среди этих записей встречаются упоминания о собственных мыслях и наших разговорах. Но там нет ни слова о тех серьезных беседах, которые мы вели между ужином и сном на протяжении всего первого месяца на льду, пока у нас оставалась энергия для разговоров. Кроме того, несколько дней из-за бури мы провели в палатке. Я сказал ему, что мне не запрещено использовать паравербальную речь на планетах, не входящих в союз, но делать этого не рекомендуется, и я прошу его сохранить это в тайне, пока я не посоветуюсь об этом со своими коллегами на корабле. Он обещал и сдержал свое слово.
В его записях нет и слова о наших молчаливых беседах.
Мозговая речь — единственное, что я мог дать Эстравену из всей нашей цивилизации, которой он так глубоко интересовался. Я мог рассказывать и описывать бесконечно, но дать мог только мозговую речь. В сущности это было единственное существенное, что мы могли дать Зиме. Но не могу сказать, что нарушил закон и культурное эмбарго из благодарности. Я не платил ему долг. Такие долги остаются неоплаченными.
Эстравен и я просто оказались в таких отношениях, когда делишь все, чем обладаешь.
Думаю, что половое сношение между двуполым гетенианцем и однополым человеком с Хейна возможно, хотя такие отношения неизбежно будут стерильными, но это требует доказательства, и мы с Эстравеном лишь вскользь коснулись этой темы. Самый критический момент в наших сексуальных влечениях наступил в самом начале пути, во вторую ночь на льду.
День был тяжелый, мы пересекли покрытый трещинами район к востоку от Огненных Холмов. В этот вечер мы были усталы, но возбуждены, понимая, что скоро перед нами откроется ровная поверхность. После ужина Эстравен стал неразговорчив и обрывал разговоры. После очередного отпора я спросил:
— Харт, я что-то неверно сделал? Скажите, что?
Он молчал.
— Я допустил ошибку в шифгреторе? Простите, никак не могу научиться. Я так и не понял истинного значения этого слова.
— Шифгретор? Он происходит от старого слова, означающего «тень».
Некоторое время мы оба молчали, затем он прямо и искренне посмотрел на меня.
Его лицо слегка покраснело от жара печи, оно казалось таким уверенным, таким отдаленным, как лицо женщины, которая смотрит на вас, задумавшись, и молчит.
Я снова увидел то, что старался не замечать, боялся увидеть, что он женщина в такой же степени, как и мужчина. До сих пор я не воспринимал его полностью, отрицал его сущность. Он — единственный человек на Гетене, который поверил в меня, кто понял во мне человека, кто увидел во мне личность, и поэтому был вправе ожидать от меня такого же отношения. А я боялся ответить ему тем же. Я не хотел давать свою дружбу, свою верность мужчине, который был женщиной и женщине, которая была мужчиной.
Он просто и коротко объяснил, что находится в кеммере и старается избегать меня. Я тоже должен избегать его.
— Я не должен касаться вас, — непринужденно добавил он.
Говоря это, он смотрел в сторону от меня.
— Понимаю, совершенно верно, — ответил я ему.
Мне казалось, — я думаю, и ему тоже, — что из-за сексуального напряжения, принятого и понятого, но не успокоенного, возникла уверенность в дружбе между нами, в дружбе, так необходимой нам обоим в этом изгнании и так помогавшей нам в дни и ночи тяжелого пути. Это может быть названо и любовью. Но любовь исходила не из сходства, а из различия между нами.
Она была мостом, соединявшим нас.
Сексуальная встреча поставила бы нас в положение чужаков. Мы соприкоснулись единственным возможным для нас путем. И так все и осталось. Не знаю, были ли мы правы.
В этот вечер мы еще немного разговаривали, и я помню, как тщетно пытался объяснить ему, что такое женщина. В следующие несколько дней мы общались друг с другом с осторожностью. Любовь между другими людьми означает, кстати, возможность наносить друг другу глубокие раны. До этой ночи мне никогда не приходило в голову, что я могу ранить Эстравена.
Теперь, когда исчезли барьеры, ограничения, наложенные на наше общение, казались мне невыносимыми. Очень скоро, два или три дня спустя, после праздничного ужина — добавочной порции похлебки из кадика, которой мы отметили пройденные за день двадцать миль, я сказал:
— Весной, в нашу последнюю встречу в вашем доме, вы говорили, что хотите больше узнать о мозговой речи.
— Да.
— Хотите я научу вас ей?
Он рассмеялся.
— Пытаетесь уличить меня во лжи?
— Если вы даже когда-то лгали мне, это было давным-давно и в другом мире.
Он был честным человеком, но вряд ли прямым. Мои слова, видимо, обрадовали его, и он сказал:
— В другом мире я могу по-другому лгать вам. Но я думал, вам запрещено учить мозговой речи туземцев, пока мы не присоединены к Экумену.
— Не запрещено. Просто так не делают. А я сделаю, если хотите. И если смогу. Я не Выявитель.
— Значит, есть специальные преподаватели этого искусства?
— Да. Но не на Альтерре, где у жителей естественная восприимчивость и где, как утверждают, матери разговаривают со своими неродившимися детьми. Не знаю, что отвечают им дети. Но большинство из нас можно обучить иностранному языку. Или, скорее, родному языку, которому начинаешь учиться поздно.
Я думаю, он понял, почему я предлагаю обучать его этому искусству, и очень захотел научиться. Нужно было начинать. Я вспомнил, как меня самого учили в двенадцатилетнем возрасте. Я велел ему очистить мозг, впустить в него пустоту. Он сделал это быстро и тщательно, лучше, чем я когда-либо; не зря он был адептом жанндары. Я начал как можно яснее мысленно говорить с ним. Никакого результата. Я попытался снова. Я старался в течение получаса, пока мозг у меня не «охрип». Он уныло посмотрел на меня.