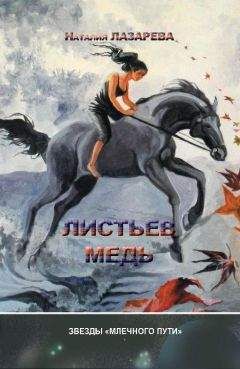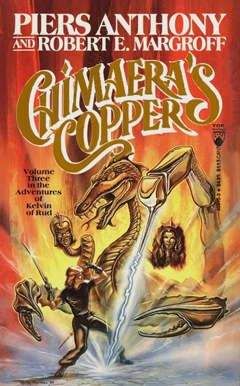– Да перестаньте вы зря детей пугать. Все равно ведь ничего не можете сделать. Станция «Сполох», тоже мне!..
Ми не пошевелилась, только замороженно подняла руку и вытерла пальцами шею, которую Аким запачкал кровью.
В подъезде Чубаров глянул на доску домоуправления, укрепленную на стене. От нее шли внешние навесные кабели, словно нити паутины, собиравшиеся в единый узел в будке дворовой подстанции. На доске светились фамилии жильцов, перебравших допустимый уровень по электроэнергии, и тех, кто превысил норму покупок в местном ларьке. Чубаров нажал код пустующего помещения, где находился только что, и удостоверился, что счетчик там удачно пережат, и сведений о подключении старенького проигрывателя к сети не поступало…
А тем временем выпускная группа, так и не заметив потери мастера, благополучно добралась до игрового центра.
Здесь их карточки учспецов вполне сработали, стойка убрала свой шлагбаум, и ребята забрались на галерею, под которой находился игровой зал.
Катя отправилась в операторскую, вставила игровую карту в щель ЕСС (Единой сети страны) и тут же получила все данные по игре на терминале. Запуск прошел быстро, хотя из-за недоделок пришлось применить программные заплатки.
Игроки замерли на галерейке, расположенной над круглым залом с колоннами. Под ним, на середине зала, поблескивал лигопроектор. Как только на его боку мигнула лампочка, в пространстве зала начали возникать изумрудные ледяные иглы, расплющенные с одного конца. Булавки постепенно заполнили весь объем зала и начали угрожающе наступать на играющих, поднимаясь и держа на уровне их глаз хищные острия, по которым стекали холодные искры. Лисина завизжала и нажала кнопку пульта, и тогда все, перевоплотившись в сознание Герды и Оленя, начали обстреливать Булавки огненной смолой их хоботов Размороженного Стада Мамонтов. Необходимо было прорвать оборону и занять позиции. Причем, только лишь с одной стороны «прорыв и занимание позиций» вполне соответствовало лозунгам Государства, возникавшим всяким ранним утром на общественных корпах, а вот с другой… Таинственная и обжигающая зелень Булавок, мохнатые извивающиеся хоботы Мамонтов и острые выплески огня вокруг Красных Башмаков создавали внутри играющего особую пустоту, некий вакуум, в который вторгались все чувства, сворачивались напряженным клубком и затем взрывались, принося разрушение ровного строя жизни и расчищая небольшую площадку, где мятежному сердцу можно было на миг растянуться и вздохнуть.
Чубаров пробрался на галерейку в самый разгар общего визга и гогота. Катя оставила приборы и поднялась за ним. Даже в тусклом мелькающем свете, который давала голограмма, было заметно, что нос мастера предательски распух.
– А я, я… Сова, оступился по дороге. Шнурок развязался. Вдруг так сразу. Да-а… Попроси мать выбросить вашу дурацкую тарелку. Я тебе хороший хромированный ящик приволоку, мне случайно обломился.
После просмотра игры ребята двинулись к Марику, он обещал, что родителей дома не будет – у них собрание домового комитета.
Женька с Нерсисяном застряли возле теле-корпа, показывающего последний матч между «Локомотивом» и «Крылышками», Лисина устроилась на ковре, положив тонкие ножки друг на друга и, полусняв туфельки, поигрывала ими, подкидывая пальцами узкий мыс. Катя рылась в книгах, а Марик разбирался с бутербродами. Женя Комлев тут же вытащил из кармана и вставил в аудио-щель дискету с песенками из «нерекомендованного до 16 лет» ремейка фильма «Строгий юноша». Когда колбасу съели и принялись за припрятанные в кухонном корпе шпроты в масле, Варакуша поинтересовался, чья это фотография стоит на общественном мониторе, с правительственным призывам высаживать весной проросший лук в городских полисадниках.
– Это мой дед, Сергей Леонидович, – ответил Марик, – Только его нету.
– От старости умер? – спросил деловито Нерсисян.
– Не знаю, я не видел этого, – ответил туманно Марик и внимательно посмотрел на подлокотники кресла, в котором так любил сидеть его дед. Потом устроился в кресле, пощупал округлые ореховые выверты и задумчиво посмотрел перед собой.
– Знаете, мне вчера приснился сон, – начал он тихо. – Будто из Москвы ездит маленький вагон метро – точнее, обрезанные зачем-то четверть вагона – прямо в Париж – и там соединяется с парижскими подземными поездами. Можно путешествовать туда запросто, не нужно получать характеристику в райкоме, и никто на границе не пристрелит. Садиться надо на «Октябрьской-кольцевой». Я побаиваюсь пользоваться этим четвертьвагоном, но во Францию очень хочется. Разве когда-нибудь попадешь? И вот я решаюсь. Сажусь в скоростной лифт, который везёт на платформу, «к поездам». Никто меня не проверяет. Какой-то дядька едет со мной, видно, работает во Франции. Лифт ухает вниз и летит по наклонной плоскости. Летит долго-долго; я уже начинаю беспокоиться и ложусь на пол кабины, мне кажется даже, что там есть частичная невесомость. Наконец, двери открываются, приехали: да, это Октябрьская, а там уже стоит четверть вагона, полным-полно людей: все хотят во Францию. Я еле втискиваюсь, и мы едем. Но на «Парке культуры» громкий голос из репродукторов объявляет: «Внимание, предупреждение. У вас последняя возможность выйти из вагона, чтобы избежать неприятностей: попытка проехать на территорию Французской республики будет рассматриваться как тяжкое уголовное преступление и повлечёт за собой наказание по ст. 533333-бис Уголовного кодекса». Я боюсь. После ещё одной станции начнутся французские. И я схожу. Поверхность земли, звёзды, огоньки. Станция называется «Ночная». Иду к площади Восстания. Потом передо мной вдруг возникает большой песчаный обрыв, и я плавно съезжаю вниз, а ноги утопают в вязком-вязком песке…
– С ума сойти, – тут же откликнулась Лисина, – Такое и представить себе трудно.
– Трудно? – Катя отложила книжку про апории Зенона, что крутила все это время в руках. – А ведь люди же куда-то исчезают. Ну… выпадают. Я только вчера слышала, у нас такое радио… Радио «Сполох»….
Паша Нерсисян постучал себя кулаком по лбу, потом ткнул указательным пальцем в Катю.
– Да здесь же… – начала, было, Катя.
Но тут все широко открыли рты и подставили растопыренные ладони к ушам, а огромная Зинаида подошла к корпу с общественным терминалом и ласково приобняла его. И, хотя никто не был уверен в том, что квартира профилактически прослушивается с районной «эпидемподстанции» именно в это время, решили все же уйти чуть подальше от корпов – а то, кто их знает, может они и напрямую связаны. Потому гурьбой просунулись в тесную соседнюю комнатушку, куда пока до разборки составили старую мебель и сложили портящие новенький интерьер вещи. Древний буфет с гранеными стеклышками занимал целый угол, возле него были свалены друг на друге несколько венских стульев. Буфет казался сам по себе отдельным домом. За гранеными стеклами стояли тонкие чашки с отбитыми ручками, украшенные блеклыми цветами сирени, лежали остатки маминой коллекции бабочек, где сквозь желтоватую папиросную бумагу просвечивали мохнатые тельца и глазастые пыльно-замшевые крылья, возникали из хрупких обрывков бумаги изогнутые усики, и свисал снизу листов какой-то непонятный, трепещущий на сквознячке хлам. Тут же прислонены были к чайнику без крышки сложенные веером старые фотографии, опять улыбался с них крупный, густоволосый, странно моложавый дед Леонидыч и печально поглядывала совсем седая бабушка Ольга. Мама Марика в форменном пиджачке, со значком-снежинкой у сердца стояла очень гордо и независимо, высоко подняв голову, так что отчетливо были видны большие круглые отверстия ноздрей.