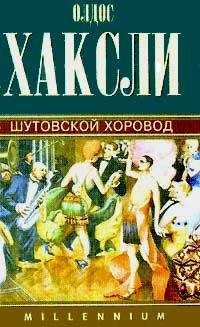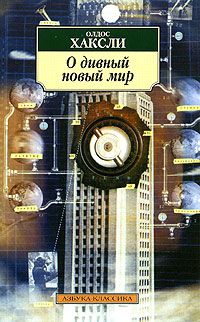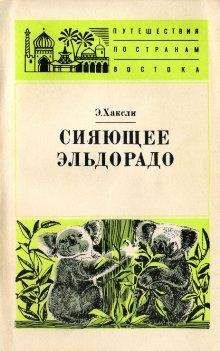И конечно, было совершенно бессмысленно ехать сейчас в Робертсбридж. Она, конечно, уехала. И все-таки оставалась безумная надежда. Был мираж на горизонте выжженной солнцем равнины, мираж, заведомо обманчивый, и даже, как сейчас же выяснилось, вовсе не мираж, а точки, мелькающие перед глазами. И все-таки сделать это стоило, очень даже стоило — в качестве наказания, и для успокоения совести, и для того, чтобы обмануть себя иллюзией действия. И потом было еще то обстоятельство, что он должен был провести вторую половину дня с Рози, и эту встречу пришлось отменить — это тоже было в высшей степени удачно. И не только отменить встречу, но еще — последняя клоунада, самая бессмысленная и безвкусная из всех — сыграть с ней шутку. «Не могу прийти жду Слон-стрит 213 третий этаж слегка нездоров». Он спрашивал себя, как пойдет у нее дело с мистером Меркаптаном; потому что Гамбрил, повинуясь клоунской фантазии, овладевшей им на почте, куда он забежал по пути на вокзал, дал ей адрес будуара рококо и софы, в которой обитает дух Кребильона.
Перед ним расстилался бесплодный, выжженный солнцем пустырь. Была ли она права в письме? Действительно ли это продолжалось бы очень недолго и окончилось бы, как она предрекала, мучительным разрывом? Или, может быть, в ее руках была единственная надежда на счастье? Может быть, она — то самое единственное существо, с которым он научился бы ждать в тишине приближения прекрасного и страшного нечто, от чьих таинственных шагов он столько раз — и так трусливо! — спасался бегством? Он не мог решить, это невозможно было решить, пока он не увидит ее снова, пока он не овладеет ею, пока он не сольет свою жизнь с ее жизнью. Атеперь она ускользнула от него: потому что он твердо знал, что не найдет ее. Он вздохнул и посмотрел в окошко.
Поезд остановился на маленькой пригородной станции. Пригородной, потому что, хотя Лондон остался позади, жалкие деревянные домишки возле станции и более новые, построенные наспех, кирпичные здания дальше, на склоне, настойчиво заявляли о присутствии делового человека, держателя сезонного билета. Гамбрил посмотрел на дома с рассеянным отвращением, отразившимся, должно быть, на его лице, потому что джентльмен, сидевший напротив, вдруг наклонился, хлопнул его по коленке и сказал:
— Я вижу, вы согласны со мной, сэр, что на свете слишком много людей.
Гамбрил, который до сих пор разве только замечал — не больше, — что напротив кто-то сидит, теперь взглянул на незнакомца с большим вниманием. Это был крупный квадратный старик, крепкий и цветущий на вид, с морщинистым, загорелым пергаментным лицом и белыми усами, которые сливались, образуя изящную линию, с бакенбардами, чем-то напоминавшими бакенбарды императора Франца-Иосифа.
— Я вполне согласен с вами, сэр, — ответил Гамбрил. Будь он при бороде, он высказал бы свое мнение о том, что болтливые старики в поездах — учреждение совершенно излишнее. Но так как бороды не было, он говорил крайне вежливо и улыбался самой приветливой улыбкой.
— Когда я смотрю на эти возмутительные дома, — продолжал старый джентльмен, потрясая кулаком по адресу уютно устроившихся держателей сезонных билетов, — я преисполняюсь негодованием. У меня желчь разливается, сэр, — желчь разливается от этого.
— Сочувствую вам, сэр, — сказал Гамбрил. — Архитектуру здесь никак нельзя назвать привлекательной.
— Да не об архитектуре речь, — возразил старый джентльмен, — это всего лишь вопрос искусства, а мне на эту чепуху в высшей степени наплевать. Меня раздражают люди, а не архитектура, сэр: количество людей. И то, как они размножаются. Как черви, сэр, как черви. Их миллионы, они кишат по всей стране, распространяя повсюду грязь и вонь; портят все на свете. Люди — вот против чего я возражаю.
— Чего ж вы хотите, — сказал Гамбрил, — если санитарные условия не позволяют эпидемиям распространяться, если мы учим мать выращивать своего ребенка и тем самым не позволяем природе убивать его; если мы импортируем неограниченные количества хлеба и мяса, — чего же иного мы можем ожидать? Население, конечно, увеличивается.
Старый джентльмен жестом отстранил все эти соображения.
— Мне безразлично, каковы причины, — сказал он. — Для меня это все равно. Я возражаю, сэр, против последствий. Да вы знаете, сэр, что еще на моей памяти за Швейцарским Домиком можно было гулять по чудесным лугам, и я сам видел, как в Западном Хэмстеде доили коров, сэр. А теперь, что я вижу теперь, когда я еду туда? Гнусные красные города, кишащие евреями, сэр. Кишащие преуспевающими евреями. Имею я право возмущаться, сэр? Имею я основания обличать, подобно пророку Ионе?
— Имеете, сэр, — сказал Гамбрил со все возрастающим жаром, — тем более что этот жуткий прирост населения — самая страшная опасность, какая угрожает миру в наши дни. При народонаселении, которое в одной Европе увеличивается на несколько миллионов в год, немыслимы никакие политические прогнозы. Еще несколько лет подобного животного размножения, и все мудрейшие планы сегодняшнего дня пойдут прахом, или, вернее, пошли бы прахом, — поспешил он поправиться, — если бы они вообще имелись.
— Весьма возможно, сэр, — сказал старый джентльмен, — но против чего я восстаю, так это против превращения доброй пахотной земли в городские улицы, против того, что там, где раньше мирно паслись коровы, теперь вырастают дома, полные никому не нужных, отвратительных человеческих существ. Я протестую против того, что природа становится местом прогулок для горожан.
— А есть ли у нас надежда, — серьезно спросил Гамбрил, — что в будущем мы сумеем поддерживать все наше население? Уменьшится ли когда-нибудь безработица?
— Не знаю, сэр, — ответил старый джентльмен. — Ясно одно: семьи безработных будут увеличиваться.
— Вы совершенно правы, сэр, — сказал Гамбрил, — они будут увеличиваться. А семьи работающих и вообще более обеспеченных людей будут так же неуклонно уменьшаться. Как прискорбно, что мальтузианство получило распространение не в тех кругах, в каких следует. Существует, по-видимому, какой-то предел обеспеченности, ниже которого ограничение рождаемости не практикуется, и какой-то предел образования, ниже которого оно считается безнравственным. Надо удивляться, как много времени потребовалось, чтобы отделить в сознании человека понятие любви от понятия продолжения рода. У большинства людей эти понятия даже теперь, в так называемом двадцатом столетии, все еще неразрывно связаны. Впрочем, — продолжал он, — жизнь идет вперед, пусть медленно, но все же идет. Так, например, в последних статистических отчетах я с удовлетворением отметил, что духовенство как класс в настоящее время отличается поразительной малочисленностью семей. Шутки над плодовитостью священников устарели. Будет ли слишком смелым надеяться, что эти господа начнут наконец проповедовать то, что они уже практикуют?