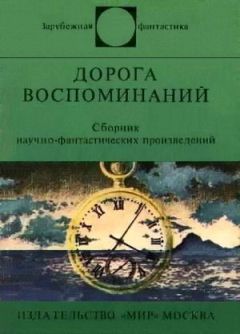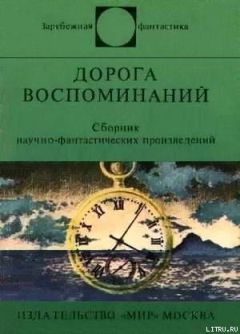Я уже потерял всякое терпение. Да и далекий зловещий рык становился все слышнее.
Джим устало покачал головой.
— Если ты ничего не знаешь о лнаге, то лучше воздержись от глупых замечаний. Любой негритенок сказал бы тебе, что лнагу ни в коем случае нельзя носить. Она тут же рассыплется в пыль. Иначе говоря, от нее ничего не останется уже через несколько секунд после того, как ты ее срежешь.
Я посмотрел на него с самым невинным видом, какой только сумел изобразить.
— Но в таком случае, Джим, — прости мой вопрос, — что же делают с этой самой лнагой?
Он немного помолчал (это окончательно вывело меня из равновесия — ведь уже совсем стемнело!), а потом задумчиво сказал:
— Я думаю, другой возможности у нас нет, Вернон.
В его голосе была мягкость, которая не предвещала ничего хорошего — я знал Джима с детства.
— И что же ты собираешься делать? — возопил я.
— Лнагу надо съесть тут же на месте, — ответил он с насмешливой улыбкой. — Ты не голоден?
Увидев, что он и в самом деле протянул руку к пурпурному наросту, я больше уже не смог сдерживаться. Я со всего размаха ударил его по пальцам и толкнул. Наверное, нервы у меня совсем расходились. Джим никак не ожидал такого нападения — может быть, потому, что он гораздо сильнее меня, и мы оба это прекрасно знаем: он потерял равновесие и свалился на мокрую траву.
— Чтоб тебя растоптал белый слон! — взревел он. — Ты что, с ума сошел?
— Это ты сходишь с ума! — закричал я, совершенно не думая ни о белом слоне, ни о том, что я посмел сбить Джима с ног. — Как ты можешь хотя бы подумать о том, чтобы набить себе рот такой мерзостью, от которой на сто шагов несет отравой? И ты что, не видишь, ночь того и гляди застанет нас тут, а до развалин еще неизвестно сколько идти!
Ему, собственно, полагалось бы вскочить и броситься на меня (он уже довел меня до того, что я готов был с ним схватиться), но он ни о чем подобном не Думал. И я еще больше встревожился, услышав, что он говорит совершенно спокойно, словно ничего не произошло:
— Не будь идиотом, Вернон. Такое везение два раза в жизни не повторяется. Никто еще не умирал от лнаги. Наоборот… — он на секунду замолчал. — Наоборот, мы с тобой первыми из всех белых узнаем…
— Да скажи ты мне по крайней мере, что это еще за важность такая? Объясни, чего ради ты стараешься отравиться этим чертовым грибом посреди глухих джунглей с единственным утешением, что потом отравятся дикие звери, которые тебя тут же сожрут?
Он опять помолчал, и это молчание показало мне, насколько он меня презирает, — показало лучше, чем это могла бы сделать пощечина. А когда он снова заговорил, я понял, что его решение бесповоротно. Конечно же, он говорил тем мягким тоном, который не предвещал ничего хорошего.
— Тебе следовало бы остаться дома, Вернон, гулять по своей плантации, а не по джунглям, иметь дело с неграми, которые говорят «да, масса», а не с Нгалой и интересоваться — так, для времяпрепровождения — каким-нибудь линчеванием, а не поисками древне-африканской культуры.
— Всего хорошего, Джим, — только и ответил я и удалился быстрым шагом.
Я прекрасно мог найти дорогу и без пего и вовсе не был обязан оставлять свою шкуру в джунглях только потому, что он неожиданно сошел с ума.
Неожиданно?
Не знаю.
Я пожал плечами и вступил под отвратительную кровлю леса, освещая себе путь карманным фонариком. Ведь я же знал, что Джим всегда был тронутым, что его отец, неудачник Чарли Браун, был самым нищим из всех белых жителей Джорджии, одним из тех бродяг, которые живут вперемешку, с неграми, способны напиваться с ними и даже жейиться на негритянках и дюжинами производить па свет несчастных детей, готовых с первых дней своей жизни проклинать родителей. Правда, Чарли женился не на негритянке, а на какой-то Эвдоре, которую подцепил неизвестно где, но оба они надрывались на плантации бок о бок с неграми. И если бы я не повстречался случайно с Джимом…
Как я ни старался, но в этой мгле, под густой листвой, теснящейся на змеевидных ветвях, между стволами, оплетенными сетью лиан, по неведомой жиже, которую мне не хотелось бы называть землей, идти быстро было совершенно невозможно. Все вокруг меня таинственно шелестело и шевелилось, словно я забрел в ловушку, чьи стены готовы были вот-вот распахнуться, оставив меня лицом к лицу с каким-нибудь из тех диких зверей, которые, как я чувствовал, бесшумно скользили за зелеными завесами листвы, вынюхивая мои следы и заранее облизываясь. И все это усугублялось тьмой. А кроме того, в глубине души я не очень-то доверял своему чувству направления, хотя оно и должно было бы вести меня прямо к священным развалинам, о которых рассказывал нам Нгала. Тот, кто отправляется в джунгли — да к тому же еще ночью, — намереваясь брести наугад, не слишком-то быстро приближается к цели. Я от всего сердца проклинал Джима и прислушивался, надеясь, что он всетаки пошел за мной. Но-я знал, что целый легион демонов не сдвинет его с места, если только он сам не передумает. И хуже того — я знал, целые легионы демонов с их генералами во главе но смогут выбить из его башки то, что он туда вобьет.
…Мне было тогда, наверное, лет восемь. Стояло лето, и я совсем запыхался, когда прибежал в маленькую рощицу акаций, где прятался старый негр, который гнал самогон в развалившейся хижине, построенной когда-то давно еще моим дедом Стюартом. Правда, прятался — это мы только так говорили. На самом деле Иаков вовсе ни от кого не прятался, потому что самогон у него покупал сам Хоуард, шериф. Ну, конечно, не сам, а через Верзилу Джо — не мог же шериф сам являться к Иакову за спиртным. Я хочу сказать, что Иаков совершенно открыто жил в этой хижине и, уж наверное, платил моему отцу какую-нибудь аренду, деньгами или самогоном (думаю, скорее самогоном). Иакова я боялся, потому что он всегда был пьян, но мне нравилось подсматривать за ним, пока он возился под акациями, катил бочонок или брел за водой к маленькому ручейку, который еле сочился позади его лачуги. Я и сейчас еще помню, с каким восхищением, затаив дыхание, я разглядывал его, потому что такого человека — как бы это сказать? — просто не могло быть. Однажды я слышал, как моя мать неодобрительно говорила о нем с негром-проповедником и обвиняла его в том, что он «делает еще несчастнее людей, которые и без того уже достаточно несчастны», и в моем детском воображении старик рисовался каким-то демоном, в довершение святотатства носящим имя библейского патриарха. Однако этот демон притягивал меня гораздо сильнее, чем святые, о которых нам рассказывая священник, и, когда я смотрел, как он, пошатываясь, бродит под зелеными кронами акаций, мне казалось, что я присутствую при каком-то таинственном ритуале, смахивающем на черную мессу.