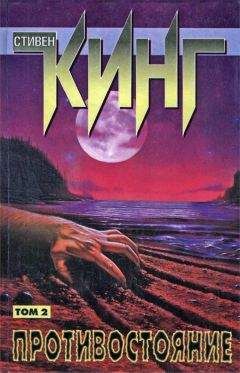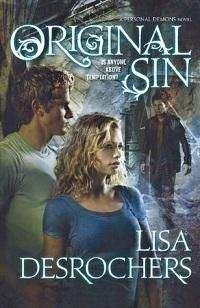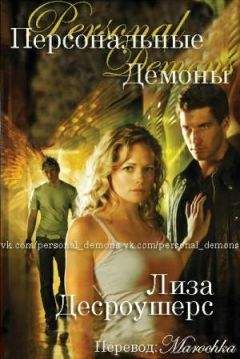— Когда вы заканчиваете строить хлев, — сказал Бейтман Нику, Стю и Фрэн после того, как темнота положила конец их поискам на сегодня, — вы вешаете на двери лошадиную подкову кончиками вверх, чтобы сохранить удачу. Но даже если один из гвоздиков вылетит и подкова перевернется концами вниз, вы не бросите ваш хлев.
Может настать тот день, когда мы или наши дети все-таки оставим хлев, если подкова не сохранит удачу, но до той поры пройдут еще годы и годы. Сейчас же мы все чувствуем себя немного разобщенными и потерянными. По я думаю, это пройдет. Если Матушка Абагейл мертва — а, Господь свидетель, я надеюсь, что нет, — то, возможно, трудно было бы подобрать лучшее время для душевного оздоровления этого сообщества.
Ник написал: А вдруг ее предназначение — быть пробным камнем для нашего Противника, его противовесом — кем-то, поставленным здесь для соблюдения равновесия…
— Да, я знаю, — мрачно сказал Глен. — Я знаю. Время, когда подкова не имела значения, возможно, проходит… уже прошло. Поверь мне, я это знаю.
— Но вы ведь на самом деле не думаете, что наши внуки станут суеверными дикарями, а, Глен? — спросила Фрэн. — Сжигающими ведьм и плюющими сквозь пальцы для удачи?
— Я не могу предсказывать будущее, Фрэн, — сказал Глен, и в свете фонаря его лицо показалось старым и изможденным, как у потерпевшего фиаско фокусника. — Я даже не сумел правильно понять то влияние, которое Матушка Абагейл оказывает на сообщество, пока Стю не указал мне на это той ночью на горе Флагстафф. Но вот что я знаю: мы все находимся здесь, в этом городе, благодаря двум событиям. Первую причину, супергрипп, мы можем списать на глупость человеческой расы в целом. Не важно, мы это сделали, или русские, или латыши. Вопрос, кто опрокинул пробирку, теряет свое значение перед главной истиной: итог всякого рационализма — всеобщая могила. Законы физики, законы биологии, математические аксиомы — все это часть смертельного исхода, потому что мы те, кто мы есть. Не будь Капитана Скорохода, нашлось бы что-то еще. Было модно обвинять во всем технологию, но технология — ствол дерева, а не его корни. Корни — это рационализм, и я бы определил это слово так: «Рационализм — это убеждение, что нам когда-нибудь удастся что-либо понять о сути бытия». Это верный путь к погибели. Так оно всегда и было. Поэтому можете списать супергрипп на рационализм, если хотите. Но вторая причина того, что мы здесь, это сны, а сны иррациональны. Мы договорились не разглагольствовать об этом простом факте в нашем комитете, но сейчас мы не на собрании. Поэтому я скажу правду, которую мы все знаем: мы находимся здесь под воздействием тех сил, природу которых не понимаем. Для меня это означает, что мы, возможно, начинаем принимать — пока лишь подсознательно и с многочисленными откатами назад из-за отсталости нашей культуры — иное определение существования. Идею, что мы никогда не сможем ничего понять о сути бытия. И если рационализм — это путь к гибели, о то иррационализм вполне может оказаться путем к жизни… по крайней мере пока он не докажет обратное.
Стю очень медленно произнес:
— Что ж, у меня есть свои суеверия. Надо мной нередко смеялись из-за них, но они у меня есть. Я знаю, что нет никакой разницы, две сигареты прикуривает парень от одной спички или три, но две не действуют мне на нервы, а от трех мне становится не по себе. Я не хожу под приставными лестницами и не люблю, когда черная кошка перебегает мне дорогу. Но жить без науки… быть может, поклоняться солнцу… думая, что чудовища катают кипящие шары по небу, когда грохочет гром… Нет, лысик, я не могу сказать, что все это меня радует. Да нет, это кажется мне чем-то вроде рабства.
— Но предположим, что все эти вещи — правда, — тихо сказал Глен.
— Что-о?
— Допустим, что эра рационализма только что миновала. Я лично почти уверен в этом. Знаете, она приходила и уходила раньше; она чуть не покинула нас в шестидесятых годах нашего века, так называемая Эра Водолея, и она взяла почти бессрочный отпуск в средние века. И допустим… Допустим, когда рационализм уходит, некий слепящий яркий свет исчезает на время, и нам становится видна… мы можем видеть… — Он запнулся, его глаза словно заглянули внутрь себя.
— Что видеть? — спросила Фрэн.
Он поднял на нее глаза; они были серыми и какими-то странными, словно излучающими свой собственный внутренний свет.
— Черную магию, — мягко сказал он. — Вселенную, полную чудес, где вода струится вверх по горам, где тролли живут в глухих лесах, а драконы — в пещерах. Яркие чудеса, белую силу. «Лазарь, восстань». Воду, превращающуюся в вино. И… быть может… только быть может… избавление от дьяволов. — Он помолчал, потом улыбнулся и добавил:
— Путь к жизни.
— А темный человек? — тихо спросила Фрэн.
Глен пожал плечами.
— Матушка Абагейл называет его сыном Сатаны. Может, он всего лишь последний кудесник рационального мышления, собирающий против нас орудия технологии. А может, тут что-то еще, что-то намного темнее. Только знаю, что он есть, и я больше не думаю, что социология, или психология, или любая другая логия положит ему конец. Я полагаю, это сделает лишь белая магия… а наш белый маг бродит где-то там, и одиночестве. — Голос Глена едва не сорвался, и он быстро опустил глаза.
Снаружи теперь была лишь тьма, ветерок, дувший с гор, швырнул очередную струйку дождя на стекло окна гостиной Стю и Фрэн. Глен стал раскуривать трубку. Стю вытащил из кармана пригоршню мелочи и начал встряхивать монетки, а потом раскрывать ладони, чтобы посмотреть, сколько из них легли решкой, а сколько — орлом. Ник рисовал сложные загогулины на первой страничке своего блокнота, а перед собой видел пустые улицы Шойо и слышал — да, слышал, — как голос шепчет ему: «Он идет за тобой, глухарек. Он уже ближе».
Через некоторое время Глен и Стю разожгли камин, и все стали смотреть на огонь, почти не разговаривая.
Когда они ушли, Фрэн чувствовала себя несчастной и подавленной. Стю тоже был не в своей тарелке. «Он выглядит усталым, — подумала она. — Завтра нам надо посидеть дома, просто посидеть, поговорить друг с другом и вздремнуть днем. Мы не должны расстраиваться». Она взглянула на газовый переносной фонарь и пожалела, что вместо него здесь нет электрического света — яркого света, который можно включить, дотронувшись пальцем до выключателя на стене.
Она почувствовала, как ее глаза наполняются слезами, и сердито приказала себе не поддаваться им, не создавать лишнюю проблему вдобавок ко всем остальным, но та ее часть, которая заведовала слезовыделением, была, казалось, не очень-то расположена подчиняться.