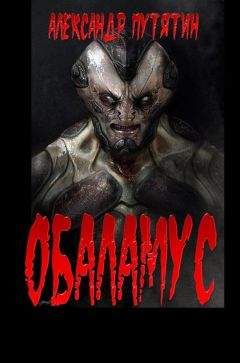А можно было превратиться в «индейца». Да, пожалуй, это сравнение благозвучно. Когда белый человек осваивал Америку, он вдруг понял, что индейцы ему в общем-то не нужны. Ни как братья по разуму, ни даже на рабочей должности – негры попроще будут, готовы бесплатно вкалывать на плантациях, только разреши им петь блюзы. А у индейцев гонор, у них амбиции, Маниту сказал то, Маниту сказал сё. И вот у индейца отнимают поле и лес, зато дают ему огненную воду и инфицированное одеяло, и стоит он в перьях и с голой задницей, пьяный и заразный. А его зоркий глаз высматривает пустые бутылки и другое вторсырье, чтобы поскорее сдать его в пункт приема. Это, конечно, не жизнь для гордого мужчины, который помнит лучшие времена. Понятно, почему от всех могикан вскоре остается один, самый последний, да и этот вряд ли приживется. Индейцы принуждены воевать меж собой, только не за поле и лес, а за стеклотару и прочее вторсырье, потихоньку занимаются и каннибализмом. Откусят от тебя немножко, а если ты пропустишь момент, то уже помногу – и им это понравится. Глядишь, и ты уже в желудке. Нравственность индейцев меняется с каждым днем в худшую сторону, и когда ты смотришь на себя в зеркало, то видишь не Большого Змея, а форменную скотину, и внешнее сходство налицо...
Я работаю в артели. Мы занимаемся мусором, выдираем провода, сгребаем бумаги и тряпки, собираем металлолом, ломаем мебель и двери на доски, разбираем крыши и окна. Потом приезжают бульдозеры, экскаваторы, мусоровозы, и наконец – механохимические комбайны, напоминающие годзиллу в расцвете лет. «Годзиллы» из чего хочешь делают один-единственный продукт – гербидж-плитку, аккуратные квадратики фекального цвета. Это «что хочешь» – остатки нашей собственной цивилизации. От цехов, ферм, столбов, фабричных труб, котельных, детских садиков, школ, химчисток, парикмахерских после нас остается только площадка, покрытая гэрбидж-плиткой. Вот вам и завершающий этап totalen Krieg[10]. Со слезами отдав честь, отправил я в пасть «годзиллы» последний советский холодильник, проработавший полвека – не чета нынешним однодневкам. Кусок за куском довоенная эпоха превращается в ноль, в белое пятно и tabula rasa.
На этом «нуле» строится новая послевоенная построссийская жизнь – люди как машины, машины как люди, тоже умные и размножаться умеют; растения как дома, и дома как растения. Они растут сами, эти бескрайние парковки, офисные гроздья, супермаркеты, макдоналдсы, стрип-бары, гей-клубы, туристические агентства, высотные дороги-скайвеи, небоскребы-кактусы, по сравнению с которыми вавилонская башня – жалкий сорняк. Одинаковая новая жизнь из саморастущего нанопланта покрывает всю поверхность Земли от Патагонии до Чукотки. Ей будут радоваться умницы-амраши, получившие сертификат молодого профессионала – American Not Russian Professional. А нам дают возможность спокойно вымереть по «естественным причинам». Были и нет, как могикане, динозавры и трилобиты. Потом можно написать, что нас сгубило изменение климата.
И в самом деле, где она – долгая Русская Зима? Где могучий Генерал Мороз, который не только сковывал наши просторы, мешая нам трудиться и приучая нас к лежанию на печке, пьянству и сочинению сказок, но еще губил полчища завоевателей похлеще маршалов Кутузова и Жукова? Нигде. Даже посреди зимы моросит дождик, как в Уэльсе или Новом Южном Уэльсе. Но мы не в Уэльсе, а на полярном Урале. Дождик впитывается наноплантом и небоскребы растут выше, скайвеи дальше...
Что-то я загрустил, как корнет Оболенский. А на самом-то деле последнее время нашему племени откровенно везет. Фортуна, знаете, каким местом повернулась – передним. У нашего вождя завелся свой человечек в администрации дистрикта North Jugra и тот стабильно дает нам подряды на сортировку и вывоз мусора.
А последнюю неделю вообще счастье привалило. Мы разбираем не унылые руины какого-нибудь кирпичного заводика, а работаем в самом настоящем поместье. В западной его части приличная усадьба, похожая на елочную игрушку огромных размеров, сад, бассейн и детская площадка под диамантоидным куполом, прудик с золотыми рыбками, вертолетная площадка – там обитает айтишный инженер высокого уровня. А в восточной части поместья остался дом, обычная хрущевская пятиэтажка. Во время войны «силы свободы» применили здесь боевую плесень и она сожрала всё живое, прежде чем саморазложиться – замечательное, экологически чистое оружие. (И это всего лишь какие-то самореплицирующиеся дендримерные молекулы – тьфу, язык сломаешь.) Так что спим мы не на бетонном полу, а в нормальных пружинных кроватях. Перекусываем не на корточках, а на настоящих табуретках за столом. А во время, свободное от работы, мы не глотаем наркод[11], а читаем письма из прошлой жизни...
Вообще, тонкая натура отличается от грубой тем, что у нее есть возвышенный идеал. Еще на войне я мечтал о том, чтобы наши ракеты «земля-воздух» не раскурочивали врага, а просто меняли у него образ мыслей и пол. Чтоб вместо грозного иностранного летуна, желающего порвать тебя на мелкие кусочки, к нам бы прилетали блондинки вроде Скарлетт Йохансон. Вот пусть они меня и побеждают в ночное время суток.
А на нынешней работе я многажды представлял себе, что стал чем-то вроде огромной губки, которая впитывает в себя всю старую жизнь на вечное сохранение. Все эти песни Майи Кристалинской и Леонида Утесова, фильмы Гайдая, подвиги пионеров-героев, дедовские ордена, переходящие вымпелы ударников труда, почетные грамоты, выданные стахановским дояркам и заслуженным учительницам, письма советских юношей девушкам-комсомолкам. О душе, а не об «этом самом»...
В пять вечера мы оборвали функционирующий коаксиальный кабель. Мы же мастера ломать, рвать, перекусывать. Кто ж мог знать, что возле заброшенного дома проходит работающий кабель. Юнга Васёк, не особо задумываясь (о чем он только думает, онанист прыщавый), перекусил многожильный КП-58 своими самозатачивающимися кусачками. И никто, за исключением трансцендентных существ, не знал, что это коренным образом переменит всю мою жизнь.
Я пошел вдоль кабеля – в нашем племени мои руки отвечали за утилизацию проводов – и где-то в пять часов пятнадцать минут оказался рядом с усадьбой инженера Кривицкого. Именно в этот момент из открытого окна на втором этаже вылетел горестный вопль и компьютерная консоль. Вопль улетел в смутный вечерний воздух, а консоль я поймал, инстинктивно подавшись вперед.
С полминуты из окна доносились неразборчивые слова на повышенных тонах, напоминающие звуки скандала, потом оттуда выглянула худющая девочка. Личико совсем как морковка, а вся как палочник. Есть такое насекомое, я когда-то держал их у себя, целую банку. Если выразиться более элегантно, то девочка была как палка. Воплощенная анорексия.