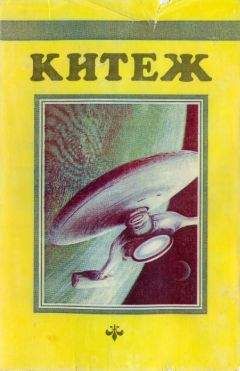Глаза его перекинулись на подпись внизу, написанную детскими каракулями: Кора Бейли.
Ах ты грязная…
Что-то остановило его, он не смог выругаться.
— О, господи. — Она стояла перед окном, вся дрожа. — До этой секунды я не переставала молиться, чтобы все это оказалось ложью. Но сейчас…
Она вздрогнула, когда он прикоснулся к ней.
— Не смей!
— Ты отказалась лететь со мной! — закричал он. — Ты отказалась!
— И это все, что ты можешь мне сказать? — спросила она.
— Чшто мне делать? — сказал он, опрокидывая в себя четырнадцатую рюмку виски с содовой. — Чшто? Артчи, я нех… не хочу ее терять. Ньее, ньи детей. Чшто мне делать?
— Не знаю, — сказал Арти.
— Этта тфарь, — пробормотал Оуэн. — Бшли б не она…
— Она просто глупая курица, — сказал Арти. — Но яичко-то снес ты, а не она.
— Чшто мне делать?
— Для начала тебе неплохо бы перестать глядеть на жизнь со стороны. Ведь это не пьеса, которую ты смотришь в театре. Ты сам на сцене, у тебя есть своя роль. Либо ты будешь играть, либо за тебя ее сыграют другие. Действуй сам. Никто не преподнесет тебе диалога на блюдечке, Оуэн, не забывай этого.
— Ну, не знаю, — сказал Оуэн. И позже повторил эти слова в тихом номере, который снял в отеле.
Неделя, две недели. Бездумные, от отчаяния, прогулки по Манхэттэну, шумному и одинокому. Посещение кинотеатров, обеды в кафе-автомате, бутылки виски, чтобы как-то забыться. И наконец — телефонный звонок отчаяния.
— Кэрол, пусти меня к себе, пожалуйста, пусти.
— О, господи, любимый… Приходи скорее.
Еще дна поездка на такси, теперь уже радостная. Свет над крыльцом, распахнутая настежь дверь, бегущая к нему Кэрол. Горячие объятья, а потом — домой, рука об руку.
Путешествие по Европе!
Сверкающий калейдоскоп мест и событий. Туманная Англия весной, Широкие и узкие улицы Парижа, расчлененные кварталами Берлин и Женева. Милан в Ломбардии, сотни островков Венеции; Флоренция, Марсель у самого моря; Ривьера, защищенная Альпами, древний Дижон. Второй медовый месяц, отчаянная попытка сойтись заново, ощущение друг друга, наполовину осязаемое, как вспышка молнии в кромешной тьме.
Они лежали на берегу реки. Солнце разбрасывало по воде сверкающие монеты, рыба лениво шевелила плавниками, держась против течения. Содержимое их корзинки для пикника было разбросано по траве. Счастливая Кэрол положила голову ему на плечо, и ее теплое дыхание щекотало ему грудь.
— Куда они подевались, все эти годы? — спросил Оуэн, не себя и не ее, а небо.
— Дорогой, ты, кажется, волнуешься, — сказала она, приподнимаясь на локте и глядя на него.
— Да, — ответил он. — Ты помнишь тот вечер, когда мы ходили в кино на “Вечное мгновение”? Помнишь, что я тогда сказал?
— Нет.
Он рассказал ей: о картине и о том, как загадал желание, о страхе, который иногда возникал в нем.
— Но ведь я хотел, чтобы время текло незаметно только вначале, — сказал он, — а не всегда, всю жизнь.
— Ах ты, мой милый, — сказала Кэрол, стараясь сдержать улыбку, — у тебя слишком богатое воображение. Ведь прошло уже семь лет. Семь лет.
Он поднял руку и посмотрел на часы.
— Или пятьдесят семь минут, — сказал он.
И опять дома. Лето, осень, зима. “Ветер с Юга”, за который Голливуд заплатил 100 000 долларов, а Оуэн отказался участвовать в написании сценария. Их новый дом, с окнами на залив, миссис Халси, которая пошла к ним работать домоправительницей. Джон — в военной академии, Линда — в частной гимназии. А после турне по Европе, в ветреный мартовский полдень — рождение Джорджа.
Еще один год. И еще. Пять лет, десять. Книги, так и летящие из-под его пера. “У истоков старых легенд”, “Исчезающие Сатиры”, “Шальная Игра”, “Лети, Дракон”. Государственная премия за книгу “Умирающий Бессмертный”. Премия Пулитцера за “Ночь Бахуса”.
Он стоял у окна своего кабинета с красивой мебелью, стараясь позабыть другой почти такой же кабинет, который помнил до мельчайших подробностей: в издательстве, где подписал свой первый контракт. Ему это не удалось. Как будто все это происходило вчера, а не двадцать три года назад. Почему он помнил его так ярко, так отчетливо? Может быть, все-таки…
— Папа?
Он повернулся, чувствуя, как чья-то ледяная рука сжимает ему сердце. Джон шел к нему по кабинету.
— Я уезжаю, — сказал он.
— Что? Уезжаешь?
Оуэн уставился на высокого незнакомого молодого человека в военной форме, который называл его “папа”.
— Милый старый папочка, — рассмеялся Джон и хлопнул его по плечу. — Пишешь новую книгу?
И только после этих слов, будто причина вызвала следствие, Оуэн узнал, что в Европе бушевала война, Джон был в армии и получил приказ отправиться за море. Он стоял, глядя на сына, слушая со стороны свой чужой голос, чувствуя, как убегают секунды. Что же это за война? Откуда, зачем вообще это злобное чудовище? И куда девался его маленький мальчик? Ведь не может он быть этим незнакомцем, который прощается с ним, пожимая руку? Ледяная ладонь сжалась. Оуэн всхлипнул.
Кроме него, в кабинете никого не было. Он моргнул. Может, это все был сон, вспышки болезненного воображения? На негнущихся свинцовых ногах он добрался до окна, глядя на такси, поглотившее его сына и умчавшееся прочь.
— Прощай, — прошептал он. — Да хранит тебя бог.
Никто не преподнесет тебе диалога на блюдечке, подумал он; но ведь сказал это другой.
Зазвонил звонок, Кэрол пошла открывать. Потом ручка двери его кабинета медленно повернулась, и она появилась на пороге. В лице ее не было ни кровинки, в руке она держала телеграмму. Оуэн почувствовал, что у него перехватило дыхание.
— Нет, — прошептал он.
Затем, задыхаясь, открыл рот в беззвучном крике. Кэрол покачнулась и замертво упала на пол.
— Строгий постельный режим минимум в течение недели, — сказал врач. — Тишина, полный покой. Страшный шок.
Он блуждал меж дюн, ни о чем не думая, ничего не чувствуя. Острый, как бритва, ветер пронзал его, срывал одежду, раздувал волосы, в которых уже появилась седина. Невидящими глазами смотрел он на пенистые волны залива. Ведь только вчера Джон ушел на войну, подумал он. Только вчера он пришел такой гордый в форме выпускника академии, только вчера он носился по всему дому, одаривая всех счастливым смехом, только вчера он родился, и ветер кидал крупицы снега по неровной лужайке…
— О, господи!
Он погиб. Погиб! И не в двадцать один год: вся его жизнь была лишь мгновением, которое скоро забудется, отложится в самых дальних закоулках его памяти.